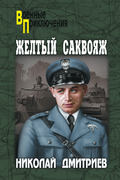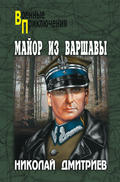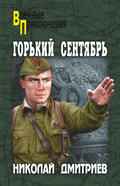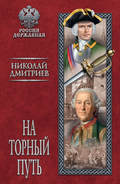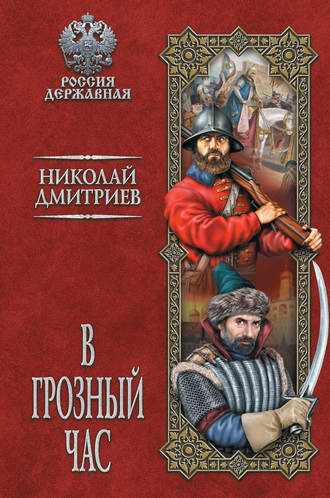
Николай Дмитриев
В грозный час
Глава 4
В гавани Рённе, что на Борхольме, было тесновато от собравшихся там кораблей, и капитану пришедшего туда ганзейского когга[17] с трудом удалось отыскать место для стоянки своего судна. Но когда десятипудовый якорь, прогремев цепью, вцепился лапами в песчаное дно, к рыскнувшему было в сторону, а потом замершему, как конь на привязи, коггу устремились малые судёнышки, спешившие начать разгрузку «купца». Однако, спустив на тросах лебёдки в подошедшую к самому борту лодью всего пару связок доставленных из Нарвы мехов, когг сам стал принимать необходимые для дальней дороги запасы, и тогда же с него в лодью сошли сразу два десятка зачем-то прибывших в Рённе пассажиров.
Лодья подняла парус, но лавировать между стоявшими в гавани судами было трудно, и тогда сидевшие в ней люди сами взялись за вёсла. Правда, двое из них остались стоять на носу лодьи, с интересом присматриваясь к раскинувшемуся на берегу городу. Звали их Егор Кольцо и Михайло Третяк. На Борнхольм они прибыли из Московии, и у Егора как у старшего в наплечной сумке лежала царская грамота. По летнему времени ярко светило солнце, но с моря дул пронизывающий ветер, и было свежо. Зябко кутаясь в лёгкий кафтан, Михайло Третяк, кивнув в сторону берега, заметил:
– Смотри, строения у них какие яркие, тут тебе и жёлтые, и красноватые, и белые. Как солнце светит, даже просто глядеть весело.
– Ага, – согласился с ним Егор и покачал головой: – А у меня дома полгода, почитай, одни сполохи…
Тем временем лодья причалила к пристани и пассажиры когга поднялись на дощатый настил. Прикинув, что тут да как, Егор велел пока всем оставаться на месте и ждать, а сам по узкой припортовой улочке направился в город.
Шагая по мощёному проезду, Егор внимательно приглядывался к домам и, углядев один, выкрашенный в ярко-жёлтый цвет, остановился. Дом был одноэтажный, с крутой черепичной крышей, из конька которой высоко торчала печная труба. Ещё к углу этого дома, рядом с выходившей на улицу дверью, был приделан железный кованый брус. Сверху на нём крепился шестигранный фонарь, а под ним, у самого конца бруса, висел искусно раскрашенный деревянный окорок.
Егор глянул по сторонам и, хмыкнув, открыл дверь. В харчевне было пустовато, но зато взаправду пахло свежим окороком, пивом и ещё чем-то пряным. У лежавшей на деревянных козлах бочки, спиной к Егору, стоял человек, который, услыхав, что кто-то вошёл, обернулся. Немного помедлив, Егор сказал:
– Мне бы хозяина…
– Ну, я хозяин… – Вытирая руки о висевший на груди кожаный фартук, человек спросил: – А ты сам откуда?
– Из Московии я, – косо глянув на хозяина, начал Егор. – Велено мне спросить у тебя про капитана Карстена Роде, а ежели его нету, то ты сказать должен, где моим людям остановиться…
– Из Московии, значит… – Хозяин кончил вытирать руки. – А люди-то твои где?
– На пристани я их оставил, – ответил Егор. – Там ждут.
– Повезло тебе, московит. Здесь капитан Роде, я скажу, чтоб провели вас. – Хозяин харчевни усмехнулся и, взяв с полки колокольчик, начал звонить, вызывая служку.
Служка из харчевни оказался больно молчаливым, и, сколько Егор ни спрашивал про город, так ничего и не сказал. Зато он беспрекословно пришёл на пристань и, забрав оттуда заждавшихся московитов, через путаницу припортовых складов быстро вывел их всех к причалу, у которого стоял большой, явно готовый к плаванию трёхмачтовый корабль. Там, вдоль дубовых кнехтов с наброшенными на них чалками, прохаживался человек, сразу привлёкший внимание Егора. Высокий, худощавый, с жёстким обветренным лицом, одетый в голландские штаны пузырями и короткую морскую куртку, он при каждом порыве ветра останавливался, брался за край украшенной плюмажем шляпы, а уже потом шёл дальше.
Служка из харчевни подошёл к нему и, показав на следовавших за ним людей, наконец-то открыл рот:
– Хере капитан, они из Московии, сказали, ищут Карстена Роде.
– Ко мне? – Карстен Роде, а это был он, глянул на подошедших и, безошибочно признав в стоявшем впереди Егоре старшего, спросил: – А ты кто таков будешь?
– Кормщик Кольцо, из поморов, – ответил Егор и показал на державшегося чуть в стороне Михайлу: – А это пушкарь московский, Третяк.
– Хорошо, – кивнул Роде и показал на остальных московитов. – А эти кто?
– Стрельцы, пушкари, поморы, – обстоятельно перечислил Егор и, подумав, добавил: – Они на царском жаловании, как положено, по шести гульденов в месяц на казённых харчах…
– Весьма кстати, что так, а служить вы все на нём будете, – капитан показал большим пальцем себе за спину, где высился свежепросмоленный борт, и весело подмигнул Егору: – Как кораблик, кормщик?
Егор отступил на пару шагов, чтобы лучше видеть трёхмачтовик, задержал взгляд на принайтовленном у носа к борту двухлапом якоре и, только углядев под высокой кормовой надстройкой четыре идущих в ряд, плотно закрытых орудийных порта, похвалил:
– Хороша посудина… Откуда?
– У свеев отобрал, – хищно улыбнувшись, ответил Роде.
– Вон оно что, – одобрительно покачал головой кормщик и, не имея возможности увидеть кормовую надпись, поинтересовался: – Имя-то у корабля какое?
– «Заяц», – усмехнулся Роде.
– Чего так? – удивился Егор.
– Удрать хотел, да не вышло, вот и «Заяц», – весело рассмеялся Роде. – А корабль нужен, я ж царю Ивану обещал, как Его Величество повелел, товары только в Нарву и из Нарвы пускать, остальным хода нет.
Лишь сейчас вспомнив про лежавшую в сумке царскую грамоту, Егор спохватился, но передать её не успел. К ним подбежал, судя по всему, боцман и доложил:
– Гере капитан, пушки привезли…
– Наконец-то! – обрадовался, видимо, ждавший этого сообщения Роде и показал боцману на московитов: – Этих всех – в мою команду. Отведи, а я насчёт пушек распоряжусь.
Роде быстро куда-то направился, а оставшийся за него боцман лишь что-то буркнул, показав в сторону установленного ближе к корме временного трапа, ведущего с причала на корабль.
Вместе со всеми Егор поднялся на палубу и стал осматриваться. Здесь для кормщика всё было внове: и размеры добротно строенного судна, и висевшие на мачтовых реях туго смотанные огромные паруса. Вниз к пушкам, куда первым делом отправился Михайло Третяк, кормщик не спускался и, пока боцман размещал в твиндеке московитов, успел побывать сначала на баке возле ворота, которым на «Зайце» поднимали якорь, а затем на юте, где был румпель, особо изучив устроенный там же навигацкий стол с закреплённым сверху компасом-«маткой».
Заглянул кормщик и в выделенную для него и Третяка как старших у московитов отдельную каюту – одну из тех, что составляли верх высокой кормовой надстройки. Свет в неё попадал через прорезанное в борту окно с наклонной, мелко застеклённой рамой, а возле стен имелись два топчана. Под ними стояли морские, особо устойчивые ввиду постоянной качки, морские рундуки, а выше, где-то на уровне роста, был прибит целый ряд медных крючков, на которые полагалось вешать одежду, оружие, сумки и прочий скарб. Усевшись на один из топчанов, Егор задумался. В письме для капитана Роде, находившемся в сумке, об этом ничего не было, но кормщик знал: сюда он направлен как негласный соглядатай государя.
Егор Кольцо был извещён, что Роде полагалось, как сразу сказал ему капитан, перекрыть Нарвский путь, и поначалу корсар так и действовал, базируясь на Эзеле, но вскорости ушёл к Ревелю, а затем и вовсе перебрался поближе к Копенгагену, на остров Борнхольм. Как Роде обосновался на Борнхольме, Егор при помощи Михайлы, общавшегося с канонирами «Зайца», вызнал довольно скоро. Оказалось, что охота на «купцов» идёт весьма успешно и сейчас под началом Роде уже целая флотилия, для которой и были закуплены доставленные на днях пушки. Эти важные сведения подтвердились сразу, едва только «Заяц» поднял якорь, так как следом за ним из гавани Рённе вышли ещё два корабля.
В открытом море флотилия тотчас перестроилась. Большой «Заяц» как флагман шёл в центре линии, а справа и слева от него, чуть поотстав, плыли меньшие по размерам двухмачтовики. В «вороньи гнёзда» всех трёх кораблей поднялись наблюдатели, которые не только высматривали «купцов», но, в случае надобности, могли и обмениваться сигналами между собой. Командовал флотилией сам Роде, капитаном «Зайца» считался его помощник Клаус, Егора определили по навигацкой части, Михайло Третяк распоряжался у пушек, а с парусами управлялся боцман.
Погода была благоприятной. Сильный и ровный, но не особо попутный ветер лишь слегка кренил корабли да гнал по морю белые барашки волн.
Спустившись южнее Борнхольма, капитан Роде начал поиск. Три его корабля то шли, пользуясь попутным ветром, то начинали лавировать, вроде как крутясь на одном месте. Как начинал догадываться всё время находившийся на палубе кормщик, Роде, отлично зная пути купеческих караванов, выходил им навстречу и, лавируя, ждал, не появится ли какой «купец». Однако море оставалось чистым, и от возни с компасом Егора оторвал только выкрик из «вороньего гнезда»:
– Вижу землю!
Поскольку земля должна была появиться с веста, Егор начал присматриваться, однако с палубы пока ничего рассмотреть не удавалось. Роде приказал начать очередную лавировку, и тут новый крик наблюдателя: «Вижу купеческий караван!» – всполошил всех.
Поняв, что надо смотреть в другую сторону, Егор вгляделся и различил в морской дымке идущие друг за другом сразу пять кораблей. Роде с помощником тоже выскочили наверх, и Клаус, стоя у навигацкого стола, уверенно начал перечислять:
– Неф[18]… Когг… Ещё когг, ещё… Идут под флагом Гданьска… – и, наконец, несколько встревоженно сообщил: – Капитан, у них каракка![19]
Кормщик уже хорошо знал, что тихоходный пузатый неф – лёгкая добыча, когги тоже особо сопротивляться не смогут, но всем корсарам было известно: пиратам взять каракку почти невозможно. Однако Роде был как всегда уверен в себе и тотчас приказал:
– Держать курс наперерез!
Заскрипел румпель, шедшие следом корабли тоже повернули, и, набрав ветер, «Заяц» пошёл шибче. Похоже, идущие вполветра «купцы» заметили опасность и, свалив под ветер, стали расходиться веером, стараясь удрать.
Началась погоня, и часа через полтора «Заяц» догнал поотставший неф и шедший почти рядом с ним когг. Роде сам показывал рулевым, как править, и через малое время «Заяц» был уже между этих «купцов». Капитан склонился к открытому люку и зычно прокричал вниз:
– Палить правым бортом!
Почти сразу пушки залпом ударили по нефу, его главный парус, разодранный ядром, с треском лопнул, и потерявшего ход «купца», стало заносить бортом к ветру. Теперь никуда уйти он не мог, и Роде, указывая рулевым на идущий слева когг, приказал:
– Режьте ему курс, – а затем рявкнул канонирам: – Теперь левым!
Заряженные ранее пушки левого борта дали залп, сбив фок-мачту, после чего «купец» рыскнул, столкнулся с «Зайцем», и абордажная партия, грозя саблями, полезла на палубу когга. Егору уже было ясно, чем кончится схватка, и он поискал взглядом другие корабли Роде. Каждый из них тоже успел сцепиться с одним из двух остававшихся коггов, и только опасная каракка, к тому же оказавшаяся крайней в этом неровном строю, набрав ход, уходила от захвативших свою добычу корсаров…
Глава 5
Крепость, надёжно запиравшая подходы к Усть-Нарове, была строена из кондовых брёвен по приказу Ивана Грозного сразу после того, как его войска взяли Нарву. Её высокая сторожевая башня стояла в самом центре укрепления, окружённая крепким палисадом, укрывавшим нацеленные на реку пушки. Дальше желтела широкая полоса песка, вдоль которой катила к морю свои воды Нарова. Крутая лестница вела на самый верхний ярус башни, и сейчас по ней поднимался начальник стражи, стрелецкий голова. Взойдя наверх, где неотступно сидел востроглазый стрелец, он спросил:
– Видать что-либо?
– Да пока нет вроде… – как-то неуверенно ответил наблюдатель и стал к чему-то присматриваться, а затем, показывая на море, сказал: – Никак к нам буер…
Начальник стражи тоже начал смотреть в ту сторону, но он был слаб глазами и с трудом углядел среди белых барашков волн сероватое пятно. Ветер дул с берега, и зайти под парусом в устье реки буер не мог. Потому вскорости серое пятно пропало, а позже по бокам приближающейся точки стали заметны два ряда вёсел. Большего рассмотреть голова не сумел и спросил у не отрывавшего глаз от буера стрельца:
– Что там?
– Точно, к нам идут, – отозвался стрелец и озабоченно добавил: – У них на носу малая пушка, чего-то с ней возятся, вроде как стрелять собираются…
Это известие не сильно обеспокоило начальника. И точно ещё на дальних подходах пушка выстрелила. Звук был не особо сильный, но видный издалека клуб дыма повис над буером.
– Видать, сигналят, – глядя на начальника, предположил стрелец.
– Ну, так пальни, – приказал голова.
Стрелец взял стоявшую у стены пищаль, вздул фитиль и, выставив ствол в бойницу, бабахнул так, что дымом ответного сигнала заволокло весь верх сторожевой башни. Буер заметно прибавил ходу, а начальник стражи не торопясь спустился с башни и вышел на смотровую площадку у палисада.
Пока стрелецкий голова прикидывал, кто плывёт, буер вошёл в реку, а когда поравнялся с крепостью, оттуда крикнули:
– Царёв кормщик Егор Кольцо к государю!
– Откель идёшь, кормщик? – задал вопрос голова, присматриваясь к двум установленным на носу буера пушкам и сидевшим вдоль бортов гребцам.
– От самого Борнхольма, – громко, так, чтоб было слышно за палисадом, ответил Егор.
– Далековато, однако… – хорошо знавший про все морские пути начальник покачал головой и, увидев, как табанившие было гребцы снова опустили вёсла, подгребая, чтоб течение не сносило буер, засомневался: – А с тобой что за люди?
– Наши, поморы и москвитяне, – заверил стрелецкого голову кормщик.
– Добро, – кивнул голова и, ещё раз придирчиво глянув на тех, кто был в буере, поинтересовался: – Как мимо Ревеля шли, свеев часом не встретили?
– Обошлось, – весело отозвался кормщик и в свою очередь спросил: – Нам что, приставать?
– Ладно, плыви, – после некоторого раздумья позволил голова и махнул рукой.
Ему тоже ответно помахали, и буер, больше не задерживаясь, весьма резво пошёл вверх по течению.
До Нарвы по реке было не меньше дюжины вёрст, и потому путь на вёслах для Егора показался особо долгим, а когда впереди наконец-то замаячили стены и башни, на обоих берегах совсем близко подходившие к реке, кормщик обрадовался. С левой стороны высились прямоугольные стены Ивангорода, защищённые десятком круглых башен, в то время как с правой раскинулись строения Нарвы. Их окружали укрепления, надёжно прикрывавшие городские дома с островерхими черепичными кровлями, над которыми были хорошо видны поднимавшиеся высоко вверх готические шпили соборов.
Буер подошёл к пристани, и Егору она, после суеты, царившей в борнхольмской гавани, показалась пустоватой. Правда, сразу бросался в глаза расположившийся неподалеку лагерь русского войска, и, как выяснилось после недолгих расспросов, царские воеводы тоже были здесь, в городе. Поэтому, едва закончив неизбежные хлопоты, сопровождавшие прибытие, кормщик оставил своих людей и поспешил к дому коменданта. Поначалу стража не пускала кормщика, но, когда его расспросили, кто он и откуда, Егора беспрепятственно провели в палаты. Как оказалось, воевод было двое: земский, боярин Иван Яковлев, и опричный, окольничий Василий Колычев.
Воеводам уже сообщили, кто их добивается, и потому, когда Егор вошёл, боярин Яковлев сначала окинул его взглядом, а затем, немного помолчав, сказал:
– Так вот ты каков, царёв кормщик…
Егор поклонился боярину, но промолчал: раз воеводы знают, кто он, говорить нечего; да к тому же кормщик сразу заметил: до его прихода, судя по всему, боярин и окольничий что-то жарко обсуждали. Однако молчать особо долго не пришлось, так как опричный воевода спросил:
– Скажи, царёв кормщик, а сколь у того морского атамана кораблей?
Егор подумал и ответил как есть:
– Из Аренсбурга капитан Роде с одним вышел, за месяц взял ещё дюжину, а теперь у него поболе тридцати.
Воеводы удивлённо переглянулись, и боярин Яковлев недоверчиво протянул:
– Это ж откуда столько-то?..
Его поддержал и окольничий, с усмешкой заметив:
– А чего, как говорят, он государю нашему только один корабль прислал?
– Мне то неведомо, – Егор и правда не знал этого, но, несколько задетый недоверием, стал убеждать: – Я сам был при том, как капитан Роде из пяти встреченных кораблей сразу четыре захватил. Потом случилось, что он целый караван из семнадцати судов, который из Гданьска шёл, углядел и все семнадцать взял.
– И что… ничего? – теперь уже оба воеводы, не веря в такое, закачали головами.
– Почему ничего… – пожал плечами Егор. – В самом Гданьске оттого большой шум вышел. Совет Гданьска военную флотилию на Борнхольм отправил, капитана Роде ловить.
– И, видать, поймали, раз ты здесь? – воеводы выжидающе глянули на Егора.
– Не, – отрицательно мотнул головой кормщик. – Мы в островном заливе укрылись.
– А флотилия что, так и ушла? – всё ещё не веря кормщику, спросил окольничий.
– Куда… – вспомнив, как всё было, Егор не сдержался и хмыкнул: – Датский наместник, он на Борхольме главный, полякам навстречу со своим флотом вышел и сказал, что нас в гавани Рённе нет. А потом предложил их в Копенгаген сопроводить.
– Так Сигизмунд и Фредерик вроде не воюют, – удивился боярин.
– Король Сигизмунд шведам союзник, а король Фредерик воюет с ними. Вот через то, как поляки в Копенгаген зашли, им пушками пригрозили и в плен взяли, – усмехнулся кормщик и заключил: – Капитан Роде, чтоб его поляки увидели, тоже в Копенгаген зашёл.
– Дела… – воеводы многозначительно переглянулись, и боярин спросил:
– Ну, ежели у вас всё так ладно, чего ты здесь?
– Может, и ладно. – Егор вспомнил, как в последний раз заходил в харчевню «Под окороком», и сказал: – Только мне передать велено, что король Дании Фредерик сильно капитаном Роде недоволен и вроде как на шведскую сторону склоняться начал.
– Почему? – враз насторожились воеводы.
– Капитан Роде про свои обещания забывать начал, не столько на польские и шведские корабли нападает, сколько мирных купцов, даже датских, грабит. У нашего государя людей и пушек просит, а сам королю Фредерику досаждает… – принялся было растолковывать воеводам кормщик, однако вдруг оборвал себя на полуслове и замолчал.
Было ясно: кормщик доставил важные вести. Егору Кольцо и в самом деле было поручено предупредить Ивана Грозного, что король Фредерик вроде как собрался мириться со шведами, но говорить воеводам об этом не стоило, и потому кормщик только осторожно спросил у боярина:
– Государь наш как, сюда прибыть должен али нет?
– Государь в Новгороде, поспешай туда, – твёрдо, по-приказному ответил воевода и, обождав, пока кормщик с поклоном вышел, обернулся к Колычеву: – Ну, что скажешь, окольничий?
– Скажу, зря ты меня лаешь за то, что мои люди мызы в округе разоряют, – похоже, продолжая прерванный спор, насупился опричник. – А ну как царёв кормщик правду сказал, и поляки, договорившись со шведами, обще против государя войну затеют, ливонцы эти нам сильно помогут?
Не возразив окольничему и по сути соглашаясь с ним, боярин заговорил о другом:
– Пожалуй, не мешало б войска нашего поболе собрать в Ливонии, тогда, может, шведы с датчанами поостерегутся, да и с поляками договориться полегче будет.
Запустив пальцы в коротко подстриженную бороду, Колычев какое-то время молчал, а потом неожиданно заговорил о татарах:
– Я вот думаю: шведы с поляками да ещё Магнус с Фредериком – они, конечно, все здесь, а хан крымский, Девлет-Гирей, он там, на юге, и, как ты сам знаешь, боярин, только и ждёт, чтоб в набег пойти. Может, и надежду имеет, что государь все войска с украинной линии заберёт.
– Да, ты прав, окольничий, с двух сторон сразу воевать неспособно, – со вздохом ответил земский воевода, и они понимающе с опричником переглянулись…
Часть вторая. На Москву
Глава 1
Дикое поле прямо-таки дышало опасностью, и каждый, кому доводилось оказываться там, прекрасно знал, что может или сгинуть бесследно, или, став пленником рыскавших по степи татар, очутиться в Кафе на невольничьем рынке, чтобы затем вообще угодить неведомо куда. И всё равно находились отчаянные сорвиголовы, которые порой даже в одиночку заезжали сюда, каждый раз дивясь обилию живности, разнотравью и богатству пропадавших втуне угодий.
Именно таким и был бесшабашный донской казак Тимошка Чуев, который сейчас, возвращаясь с литовского порубежья, ехал к себе в Епифань, а чтоб быстрее добраться к родному куреню, махнул прямиком через Дикое поле. Само собой, ехать на Дон было безопаснее вдоль Оки, где с давних пор была сделана засечная линия, но путь, выбранный Тимошкой, был вёрст на пятьдесят короче, да и в Придонье сама татарва шастать весьма опасалась.
Вот и ехал казак, не подгоняя притомившегося за дорогу коня да поглядывал по сторонам, думая свои неспешные думы. То и дело, едва не попав под копыта, с земли вспархивали перепела – живность покрупнее, загодя уходя в сторону, пряталась в траве, но Тимошка заниматься охотой не собирался. Край был богатющий, и думал Тимошка про возможность вольготного житья, будь здесь укрепление вроде поставленного пару лет назад князем Мстиславским острога в Епифани.
Занятый собой Тимоха вроде бы не глазел по сторонам, однако, заметив в траве выжженную солнцем довольно большую проплешину, враз встрепенулся. Жизнь в приграничье заставляла быть осторожным, и проехавший было мимо Тимоха, поколебавшись, завернул коня обратно. Остановившись у проплешины, казак слез с седла и, отпустив коня на длинный повод, пощупал ладонью прокалённый зноем, отчего ставший каменно-твёрдым, грунт.
Потом, опустившись на четвереньки, приложил ухо к земле и стал напряжённо слушать. По первости Тимохе показалось, что всё тихо, но затем слух начал улавливать вроде бы шорох. Тогда казак поднялся, достал из перемётной сумы татарскую пиалу и, перевернув, положил на проплешину, а затем, прижавшись ухом к её донцу, снова стал слушать. Вот теперь подозрительный шум усилился, и его характер не оставлял ни малейшего сомнения: где-то там, вдалеке, шла конница.
Тимоха резко выпрямился, поспешно спрятал пиалу и, одним махом вскочив на коня, стал пристально вглядываться в плывущее марево. Казак знал, что где-то здесь совсем рядом проходит сакма[20], а услышанный им далеко передающийся по земле звук мог означать только одно: по изведанному за годы шляху в очередной набег идёт конная татарва. Для верности Тимоха привстал сколь возможно выше на стременах, ещё раз внимательно осмотрелся, но, пока так ничего и не увидев, чуть ли не с места погнал намётом в сторону засечной линии.
Скакать пришлось долго. Подуставший конь начал сбиваться с ноги, но Тимоха гнал и гнал до тех пор, пока впереди не блеснула водная гладь. На берегу казак было малость задержался, но, поняв, что искать брод некогда, махнул прямиком. Запаренный конь охотно пошёл в воду, и Тимоха, держась за гриву, переплыл речку, а когда уже на другом берегу сунулся в лес, то сразу наткнулся на засечную линию. Косо срубленные, заострённые с одного конца брёвна тянулись в густых зарослях наклонным частоколом, одолеть который на коне было нельзя.
Обескураженный, Тимоха вернулся назад к реке и поехал берегом, прикидывая, как быть. Бросить коня он не мог, да и добираться пешим ходом – пустое дело. Оставалось одно: ехать к броду, где должен быть охраняемый стражей ход, но вот сколь много времени уйдёт на это, Тимоха, не знавший толком, где он, мог только гадать. Однако, проехав с версту, казак заметил уводившую в лес тропку. Без колебаний свернув на неё, Тимоха снова добрался к засечной линии и удивлённо натянул повод.
В этом месте неприступный частокол был порушен. Больше того, подкопанные кем-то пяток брёвен плотно легли на землю, образовав что-то вроде мостика, по которому казак, ведя коня в поводу, без особого труда прошёл сквозь засечную линию. Позади неё оказалась сделанная кем-то росчисть, а дальше – уже через малость прореженный лес, Тимоха легко выбрался к торному ходу и, зная, что именно по нему должна ездить засечная стража, снова пустил коня вскачь.
Правда, долго гнать по битой тропе не пришлось. Заметив быстро едущих к нему навстречу всадников и увидев, как пятеро вооружённых, по-боевому одетых в тегиляи[21] дворян преградили дорогу, Тимоха резко осадил коня. Тогда дозорцы засечной линии, а это были именно они, уже не торопясь, однако весьма сторожко, подъехали ближе, и их старший громко спросил:
– Кто таков?
– Чуев… Казак… – сбивчиво ответил Тимоха.
– Вижу, что казак. – Старший оценивающе глянул на Тимоху и вдруг сердито рявкнул: – Ты как, приблуда, на дозорный ход выбрался?
– Так через реку… – Тимоха показал себе за спину.
– Брешешь, пёс!.. Где?.. – Дозорцы все разом начали окружать казака.
– Так тут… – Тимоха полуобернулся в седле и вытянул руку.
– Показывай!.. – чуть ли не наезжая на Тимоху, зло выкрикнул старший.
Казак послушно развернул коня и зарысил обратно. Довольно скоро Тимоха в сопровождении дозорцев подъехал к проделанному меж брёвен лазу и заявил:
– Вот туточки я засеку перешёл…
Старший немедля спрыгнул с коня, отдал дворянину повод и принялся осматривать ход. Пройдя лаз до конца, он вернулся и, снова садясь в седло, косо посмотрел на Тимоху:
– Вроде не похоже, чтоб это ты дырку ладил. Вот только откуда знал, что она есть?
– Да не знал я, не знал!.. – загорячился Тимоха. – Я как учуял, что татарва сакмой идёт, враз к вам махнул! И через реку вплавь…
Едва услыхав про татар, старший тут же вскинулся, хлестнул коня и гаркнув: «Все за мной!..» – первым вылетел на дозорную тропу.
Только теперь дозорцы поскакали не в ту сторону, куда поначалу ехал казак, а в другую, и, к вящему удивлению Тимохи, совсем скоро очутились на широкой поляне, посередине которой стоял шатёр, а бывшие здесь же десятка три спешившихся всадников рассёдлывали коней. Старший дозора тоже спешился, зашёл в шатёр и, почти сразу вернувшись, обратился к Тимохе:
– Повезло тебе, казак. Воевода князь Бельский только что подъехал. Иди давай…
Тимоха весь подобрался и, заходя в шатёр, сдёрнул шапку. Командир Большого полка князь Иван Бельский, бывший по-походному в полном доспехе, стоял чуть в стороне от входа, и какой-то дворянин расстёгивал ему плечевые ремни зерцала. Находившийся рядом с князем меньшой воевода разворачивал большой свиток, в который уже пытался заглянуть топтавшийся рядом, судя по висевшей на шее медной чернильнице, тоже бывший при сабле войсковой писарь.
Дождавшись, пока снимут броню, князь глянул на Тимоху.
– Ты, что ль, молодец, татарву видел?
– Не, не видел, – покачал головой Тимоха, – слышал.
– Как то? – не понял князь.
– Да как, приложил ухо к земле, и всего делов, – пожал плечами Тимоха. – Конский топот, почитай, вёрст за десять услыхать можно…
– Значит так, услыхал – и намётом сюда? – уточнил князь.
– Само так, – подтвердил Тимоха.
– А ну-ка, посмотрим, что тут… – и, вроде как забыв про казака, князь стал вглядываться в развёрнутый свиток, который держал перед ним младший воевода.
Углядев малость провисший краешек свитка, Тимоха понял, что военачальники изучают план засечной черты. Казачью догадку подтвердил князь, сказав:
– Выходит, Муравским шляхом в набег пошли…
– Точно. Не иначе на Сенькин брод ладят, – согласился с ним младший воевода.
После этого короткого обсуждения князь снова обратился к Тимохе:
– К нам сюда долго скакал?
– Да, почитай, солнце на полдуба спустилось, – прикинул Тимоха.
– Так это ж вёрст двадцать, а то и боле, – заметил младший воевода.
– Верно, – согласился князь и заключил. – Значит, не иначе завтра у нас…
– Как раз к Сенькиному броду выйти успеем, – предположил младший воевода.
– Оно так, – кивнул князь и испытующе посмотрел на Тимоху. – А тебя, казак, чего через Дикое поле понесло? Туда идти не каждый отважится.
– Я ж в Епифань вертаюсь, а напрямки быстрей, – ответил Тимоха.
– Так то князя Мстиславского владенья, – отчего-то обрадовался воевода и спросил: – Ты князя видел?
– Ну да, – подтвердил Тимоха, – он же там обустраивается…
– Князь Мстиславский здесь полком командует. К нему через Дикое поле ехать малое время требуется, ежели для него грамоту дам, рискнёшь передать? – Бельский испытующе глянул на казака.
– А чего ж не передать? – Тимоха залихватски тряхнул головой.
– Тогда ступай, погодь малость, а как дадут грамоту, скачи не мешкая. – И князь жестом отпустил казака.
Выйдя из шатра, Тимоха лицом к лицу столкнулся с всё тем же старшим дозорцев, который, увидав его, совсем по-дружески спросил:
– Ну ты как, куда теперь?
– В полк Мстиславского посылают, – усмехнулся Тимоха.
– Что, опять через Дикое поле? – улыбнулся старшой. – И не страшно?
– Да, знамо дело, есть маленько, – тряхнул головой Тимоха. – Только оно как волка бояться, в лес не ходить.
– Гляди, казак, татарва – это тебе похуже, чем волки, – посерьёзнел старшой. – Сам же сказал, набегом идут.
– Ничего, пока они к Сенькиному броду выйдут, я проскочить успею, – бесшабашно отмахнулся Тимоха и только теперь рассмотрел на вроде бы простом тегиляе старшого ровные ряды заклёпок, крепившие изнутри железные пластины…