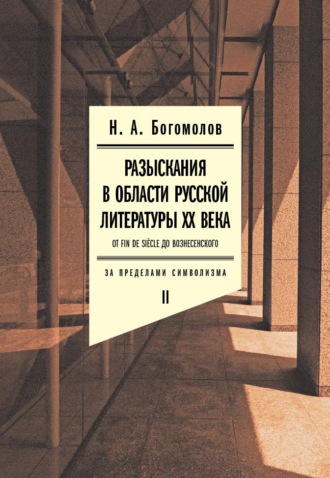
Н. А. Богомолов
Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма
КУЗМИН, МАНДЕЛЬШТАМ, КРУЧЕНЫХ И ДРУГИЕ
«СМЕРТЬ НЕРОНА» М. КУЗМИНА В ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ
Немудрено, что пьеса эта стала предметом уже не одного исследования. Собственно говоря, практически она одна во всем драматургическом наследии Кузмина является не милой шуткой, не инсценировкой и не стилизованной поделкой. Задуманная в 1924 г., начатая в 1927-м и оконченная в 1929-м, она много лет оставалась неизвестной и впервые была опубликована лишь в 1977 году. За это время вокруг нее накопилось несколько комментариев и научных работ1. Однако по большей части они касаются линии Нерона, тогда как вторая линия, «современная», затрагивается лишь слегка. Скорее всего, это было связано с тем, что она казалась авторам статей ясной сама по себе, без каких бы то ни было специальных пояснений. Как нам кажется, такое представление не отвечает действительности, и некоторые наблюдения на этот счет нам хотелось бы представить.
1. КУЗМИН И ДОСТОЕВСКИЙ
Ф.М. Достоевский не принадлежал к числу самых любимых писателей Кузмина. И тем не менее отголоски произведений Достоевского у него довольно регулярны. Однако до сих пор речь шла преимущественно о «Братьях Карамазовых». А.Г. Тимофеев посвятил значительную часть одной из своих статей откликам на этот роман в «Крыльях»2. Несколько раз проводит параллели между «Братьями Карамазовыми» и «Смертью Нерона» Дж. Калб в своей книге3. Однако, как представляется, для интересующей нас пьесы гораздо более значимым оказывается другой роман Достоевского – «Идиот».
Необходимо заметить, что вообще при разговоре о «Смерти Нерона» исследователи и комментаторы предпочитают говорить о персонажах из далекого прошлого, а не о современных. Павел, Мари и другие действующие лица «современного» плана действия неизменно остаются в тени. Меж тем именно они выявляют очень многие особенности семантики пьесы, если не большинство из них. Вряд ли подлежит сомнению, что 1914 и 1919 годы гораздо более интересуют Кузмина, чем эпоха Нерона.
Начнем с более раннего времени.
Первая же ремарка заставляет нас вспомнить названный выше роман Достоевского: «Саратов. Комната в доме Иволгиных»4. Напомним, что именно в семействе Иволгиных помещает генерал Епанчин князя Мышкина сразу же по его приезде в Петербург: «…в доме, то есть семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина <…> маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой»5. К слову отметим, что место действия пьесы напоминает о том, что годы раннего детства самого Кузмина прошли именно в Саратове. Заметим также и то, что у Достоевского в третьей главе, где речь впервые заходит об Иволгиных, все время упоминаются мать и дочь, тогда как Ганя стоит отдельно, не говоря уже о генерале Иволгине; Коля же вообще появляется много страниц спустя. Так же и у Кузмина: постоянной спутницей Иволгиной является ее дочь. Род занятий Павла, конечно, не тот, что единственно может доставить пропитание князю Мышкину, но слово, выбранное Кузминым, словно бы намекает на каллиграфические умения Мышкина: «Ты занят медициной, я своим писанием» (С. 347). К тому же Мышкин и Лукин (такова не сразу становящаяся известной зрителю фамилия Павла) практически ровесники: Павлу 25 лет, Мышкину 26. Марья Петровна Рублева, в которую – на первый взгляд, безнадежно – влюблен Павел, почти всегда называется французским вариантом имени – Мари, что заставляет вспомнить несчастную Мари из рассказа Мышкина семейству Епанчиных. В разговоре Павла с Мари очень скоро всплывает Швейцария, и потом она еще не раз будет в том или другом виде присутствовать в «Смерти Нерона» – вряд ли стоит напоминать о роли Швейцарии в жизни князя Мышкина.
В седьмой картине второго акта мы узнаем о том, что Павел получил громадное наследство, и сразу же – что отец Мари растратил сто тысяч. Ровно столько же приносит после получения наследства Рогожин Настасье Филипповне, преодолев массу усилий, чтобы получить деньги наличными в один день, – и Павел тоже. На реплику: «Деньги все же в банке. Как он может их отдать? Получена только незначительная часть», – следует ответ Иволгиной: «Из банка возьмет. Он уж найдет, что сделать» (С. 359). А девятая картина, действие которой происходит сразу после передачи денег Мари, вообще может быть принята за парафраз многих основных моментов «Идиота»: «Мари. <…> Я в первый раз вижу такого благородного человека, такого чистого, такого наивного человека. <…> Я так оскорбила вас. Павел. Это вполне естественно. Что же я был в ваших глазах? Какое-то самонадеянное ничтожество. <…> Мари. Не мучьте меня. Нет, впрочем, мучьте, вспоминайте, корите. Я заслужила это, и вы имеете право казнить меня. Пав<ел>. М<арья> П<етровна>, запомните раз и навсегда: никаких прав на вас я не имею и не собираюсь иметь. <…> Как я до этого вас любил, так и теперь люблю. Я не изменился» (C. 362), и так далее.
Наконец, стоит вернуться несколько назад к сцене в кустах над Волгой. Напомним краткий эпизод из этой сцены. «Мари. Так вы влюблены в меня. И, конечно, готовы чем угодно доказать это. Пав<ел>. Я готов доказать, но почему “конечно”? Мари. Достаньте мне хлыст. (Кидает хлыст в воду. Павел бросается с обрыва.) Браво, браво. Нет, нет, не руками. Зубами, как пудель» (С. 356). Конечно, настроенное на ситуации «Идиота» внимание первым делом различит здесь всю сцену у Настасьи Филипповны с бросанием ста тысяч в камин и репликой Фердыщенко: «Я зубами выхвачу за одну только тысячу!» (С. 146). Но, кажется, не менее важны здесь хлыст – важнейший элемент предметного мира в «Первой любви» Тургенева, и обрыв – название романа Гончарова, на долгие годы ставшего во второй половине XIX века и в начале двадцатого ключевым для понимания роковой русской любви произведения.
Таким образом, не только Достоевский, но и наиболее заметные ключевые ситуации русской прозы второй половины XIX века оказываются сконцентрированы Кузминым в нескольких строках драматического текста.
После этого уже как-то само собою разумеется, что наследство Павла оказывается полностью растраченным, а он сам попадает сперва в римский сумасшедший дом, а потом в уединенный дом в Швейцарии, весьма похожий на убежище доктора Шнейдера.
2. КУЗМИН И БАГРИЦКИЙ
Третья картина второго действия пьесы происходит в сумасшедшем доме, и открывают ее две развернутые реплики. Одну произносит первый сумасшедший – оратор, стоящий на бочке: «Господа, в этом листке бумаги – экстракт долгих лет, целой жизни, ряда поколений. Секрет бессмертия и счастья. И называется это “благовестием”. Просьба не путать с евангелием, которое в переводе тоже значит благовестие6. Я решил облагодетельствовать человечество и раздаю всем даром это сокровище. Господа, становитесь в очередь за благовестием». На эту речь откликается второй сумасшедший: «Никаких господ давно нет и Гòспода тоже. Что значит “Господь”? Соединение букв. Нужно уметь читать, как мы читаем ЛСПО. Толковать это можно как угодно. Всякий толкует по-своему, потому что это слово бессмысленно и не выражает никакой сущности. Так же и Господь. Механическое соединение букв. И никакого Господа нет. И Бога нет. Где Он? Вот я говорю, что Бога нет – и он молчит. Почему Он молчит? Потому что Его нет» (С. 370).
Тут следует напомнить, что сумасшедший дом находится в Риме, а также отметить, что произнесением этих реплик и ограничивается роль первого сумасшедшего, а второй произносит еще две реплики общим счетом в шесть слов. И этим их функция в пьесе оказывается исчерпанной. Можно было бы не обращать внимания на слова, списав их на имитацию бессмысленного речевого потока, если бы не одно сейчас уже малозаметное обстоятельство. Загадочное слово ЛСПО, нуждающееся в истолковании, теснейшим образом связано с советской действительностью 1920-х годов, и означает оно: Ленинградский союз потребительских обществ7. Мы оставляем в стороне вполне возможные рассуждения об отношении Кузмина к разного рода советским аббревиатурам, начиная с названия страны8, что нуждается в тщательном изучении разнородного языкового материала, и остановимся только на том, что в данном контексте оно приобретает характер сигнала, заставляющего задуматься над смыслом невозможного словоупотребления.
И здесь, как кажется, следует вспомнить, что в конце 1920-х и начале 1930-х годов Кузмин оказывается весьма заинтересован творчеством (и личностью) Эдуарда Багрицкого. Его статья о Багрицком9 достаточно хорошо известна, но гораздо меньше известно, что 1 апреля 1929 года, во время работы над «Смертью Нерона», приезжавший в Ленинград вместе с Н. Дементьевым Багрицкий приходил к Кузмину10, а потом от своего близкого знакомого П. Сторицына, который еще с предреволюционных времен был приятелем Багрицкого, Кузмин довольно регулярно получал о нем сведения и заносил их в дневник. К этому времени уже появилась первая книга стихов Багрицкого «Юго-Запад», в начале которой находим стихотворение «Ночь», а в нем следующие строки:
…пылкие буквы
«МСПО»
Расцветают сами собой
………………………………..
Четыре буквы:
«МСПО»,
Четыре куска огня:
Это –
Мир Страстей, Полыхай Огнем!
Это –
Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!
Это – Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!11
Нетрудно заметить, что поэт здесь проводит со словом МСПО, полным аналогом ЛСПО, ту же операцию, которую рекомендует персонаж Кузмина: толкует бессмысленное и не выражающее никакой сущности слово тремя возможными способами. Царство еды приравнивается у Багрицкого к разнообразным высшим сущностям романтического мира, от мечты и сладострастья до музыки сфер, а непричастность лирического героя этому волшебному царству ветчины и тортов вызывает поток ламентаций:
И на чтò мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовый сок?
И на чтò мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на чтò мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на чтò мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!12
Вряд ли Кузмин не обратил внимания на то, что молодой советский поэт использует ход, реверсивный движению его собственного стихотворения «”А это – хулиганская”, – сказала…», в котором «библейское изобилие» оказывается одной из вершин прежнего строя мира, ныне искаженного.
Однако отождествление ЛСПО с Господом Богом, приравнивание библейского изобилия к божественной сущности оказывается ересью, достойной в сумасшедшем доме удара лейкой по голове как самого убедительного доказательства, а в действительности… Действительность, изображенная в «Смерти Нерона», так искажена, что выход из нее трудно себе представить. Но, кажется, Кузмин готов искать и такую возможность.
3. КУЗМИН И КУЗМИН
Практически в самом начале пьесы, после обмена беглыми репликами, Мари говорит Павлу: «Какое золотое небо сегодня! Я никогда не видывала такого!», на что Павел отвечает: «А я видел! <…> Я видел! Давно. Лет десять тому назад. <…> Голова кружилась. Казалось, я мог бы полететь, запеть, записать стихи, заговорить с первой встречной дамой. И вот тогда небо было такое же золотое. Один раз» (С. 322–323). «Златое небо» – название неоконченного романа Кузмина о Вергилии, что не было отмечено комментаторами, но для нас существеннее то, что «золотым небом» завершается стихотворный цикл Кузмина «Лазарь». Его последняя строка: «И как желтеет небосклон…», а за 8 строк до этого: «Как золотится небосклон!», и еще немного ранее: «Ты, братец, весь позолотел». А в предыдущем стихотворении:
В окне под потолком желтеет липа
И виден золотой отрезок неба.
…………………………………………..
Сидевший у стола не обернулся,
А продолжал неистово смотреть
На золотую липу в небе желтом.13
…………………………………………..
– Я вам принес хорошего вина.
Попробуйте и закусите хлебом.
–– О, словно золото! А хлеб какой!
Я никогда такой не видел корки!
Вливается божественная кровь!
………………………………………….
Какое солнце! Липы!14
И еще раньше, в пятом стихотворении:
Станет человек плачевней трупа.
И тогда-то в тишине утробной
Пятая сестра к нему подходит,
Даст вкусить от золотого хлеба,
Золотым вином его напоит:
Золотая кровь вольется в жилы,
Золотые мысли – словно пчелы
……………………………………….
Выйдет человек, как из гробницы
Вышел прежде друг Господень Лазарь.
Этого, конечно, было бы явно недостаточно для объявления «золотого неба» сколь-либо надежным связующим звеном между двумя текстами, если бы «Лазарь» (напомним, написанный в январе–августе 1928 года) не был связан со «Смертью Нерона» и другими звеньями.
12-е стихотворение «Лазаря» называется «Посещение». Конечно, это посещение в тюрьме, но вряд ли случайно в самом начале читаем: «Так тихо, будто вы давно забыты, Иль выздоравливаете в больнице». В результате этого посещения Вилли-Лазарь покидает тюрьму-больницу. В третьей картине третьего акта «Смерти Нерона» Павел находится во дворе сумасшедшего дома, где нет никакого беспорядка, а, наоборот, как сообщается в ремарке, «все симметрично и чисто». К нему приходит Марианна и говорит, среди прочего: «Друзья бодрствуют и ждут вас. <…> Дайте вашу руку. Побежимте, будто играем в горелки. <…> Сторож подкуплен. <…> Вас очень любят» (С. 371). Сравним это с текстом «Лазаря»:
Идемте. Дверь открыта. Всё готово.
Вас ждут. Вы сами знаете – вас любят.
Следующее стихотворение в «Лазаре» называется «Дом», и в этом доме, окруженном садом, окончательно завершается воскрешение Вилли-Лазаря. В предыдущем стихотворении он утверждал: «…я будто умер», а здесь: «Опять я к жизни возвратился, Преодолев глухой недуг!» Седьмая картина третьего акта «Смерти Нерона» начинается с реплик Павла: «Скажите, я не умер? <…> Я не на том свете?», на что получает ответ, что он, пока не поправится, находится на даче (=дом+сад) в Швейцарии. И доктор, он же владелец дома, говорит ему: «Теперь вам придется заново начинать жизнь. <…> И совсем на других началах» (С. 377).
В «Лазаре» сюжет построен на криминальной интриге: находят застреленной Эдит, которую считают невестой Вилли, и в убийстве обвиняют именно его. Он не решается это отрицать, чтобы не подвести под обвинение своего друга (гомосексуального партнера) Эрнеста фон Гогендакеля. В конце концов смерть Эдит оказывается самоубийством. Криминальную же интригу «Смерти Нерона» формулирует доктор в той же беседе с Павлом на швейцарской даче: «Но вы помните, что ваша жена застрелила вашего друга и сама покончила жизнь самоубийством?» (С. 377). Друга этого зовут Фридрих фон Штейнбах. Не станем разбирать «странности любви», на которые неоднократно намекает Кузмин, – для наших целей вполне достаточно и уже сказанного. Не будем также умножать мелкие подробности текстуальных сближений, которых значительно больше, чем приведенных нами15. Нам представляется, что и отмеченного достаточно, чтобы уверенно утверждать: если русская часть биографии Павла построена на отсылках к русской прозе XIX века, то подтекстом «иностранной» части, и особенно третьего акта, в котором происходит главное, является «Лазарь».
Таким образом, получается, что обращенная к Павлу реплика девушки из сумасшедшего дома оказывается ложной. Напомним, что она говорит: «Я знаю, кто вы. <…> Вы – он и есть. Это было предсказано. Все приметы совпадают. <…> Когда вы лежали на земле, глаза у вас были открыты, и вы были так божественны, что никто не смел подойти близко. Потом вы встали и пошли16. <…> И ваши еврейки знали. Они знали, что украшают цветами пустую гробницу. Весь мир потаенно, подспудно, подпольно ждал вас. И вот вы пришли. Вы приходите третий раз» (С. 370–371). На вопрос Павла: «Кто же я, по-вашему?» – девушка отвечает: «Как кто? вы – вы Нерон» (С. 371), после чего «садится около него», как евангельская Мария у ног Христа (Лк 10: 39) и как Мицци из «Лазаря».
Ход мысли совершенно ясен: Павел – инкарнация Нерона, но Нерон – инкарнация Христа (потому-то «вы приходите третий раз», а не второй).
Ассоциации и словесные совпадения, которые связывают Нерона с Христом, в пьесе многочисленны. Часть из них была указана А.Г. Тимофеевым17, который, однако, считает их то пародийными, то кощунственными, связанными с «диким христианством», непросветленным мифологизирующим мышлением, готовым канонизировать тирана. В несколько другом аспекте о тех же чертах говорит и М.В. Толмачев: «Гораздо существеннее для понимания идейного замысла пьесы те ахроничные, вневременные черты, которые сближают двух главных ее героев – Павла Лукина <…> и <…> римского кесаря Нерона. Нетрудно заметить, что эти общие черты так или иначе вызывают в памяти образ Иисуса Христа. <…> Что это? Двойничество, переселение душ, повторяемость личностей и событий? Автор предоставляет нам возможность любого ответа, тем более, что для него это не так уж существенно, а существенно то, что сближает Христа – Нерона – Павла (–Дуче – Фюрера, добавит иной): их отрицание реальной действительности, живой жизни, “мира сего”, “бунт” против нее (религиозный у Христа, “эстетический” у Нерона и его позднейших инкарнаций, анархический у Павла)»18. Нам, однако, представляется, что в «Смерти Нерона» речь идет о другом.
Конечно, наш вариант решения будет гипотетическим и не отвергающим других ответов. Смыслы, постепенно проявляемые в пьесе Кузмина, множественны и создают довольно широкое поле для читательского воображения. Своеобразным символом этого становится принадлежащая Нерону куколка, названная им «Тюхэ», случайность. В монологе Нерона о ней читаем: «Вы видите – это девочка. Кто она? Кибела, Кора, Афродита, Геката – кто знает? А может быть, это изображение простой девочки из Коринфа. Она бегала, смеялась, продавала фиалки и умерла, а теперь охраняет Нерона» (С. 353). В последней сцене пьесы мы узнаем о дальнейшей судьбе этой куколки: «…он потерял ее; когда удил рыбу, она упала в воду и нельзя было найти ее» (С. 379), и тут же, после этих слов входит девушка, рассказывающая про себя: «Я из Коринфа, и зовут меня Тюхэ. <…> я продавала цветы и танцевала, когда приглашали веселить гостей. <…> Проезжал император. <…> Он был в серебряной одежде, казался рассеянным и задумчивым, а на голове был золотой веночек. Но золото не было заметно на золотых волосах, и неизвестно было, от чего ш<ло> сияние, от волос или от золота. <…> Кто он: человек или божество, я не знаю, но знаю, что если бы я лежала мертвой, а он позвал бы меня, я бы встала и пошла» (С. 379–380).
Жизнь и смерть Нерона оказываются связаны с единой и многоликой Случайностью, которой свойственно ошибаться так же часто и естественно, как и оказываться истинной. Так и здесь. Тюхэ знает о себе, что по слову Нерона могла бы повторить судьбу Лазаря (а в символическом плане – Вилли и Павла), но проверить это невозможно. Случайно она попадает в Рим не при жизни Нерона, а при его похоронах. Случайно она (или другая девушка, ей уподобленная) сталкивается с Павлом в сумасшедшем доме и провозглашает его Нероном-Христом. Но она ошибается: на деле он всего лишь Лазарь, символически воскрешенный братом, которому не случайно дано имя «Федор», т.е. «Божий дар». Это имя специально выделено тем, что оказывается в самом конце линии Павла19. Напомним, что воскресителем Вилли является часовых дел мастер Эммануил Прошке, то есть также человек, наделенный символическим именем.
Как кажется, это наиболее определенное изо всего, что можно было бы сказать о главном смысле «Смерти Нерона». Дальнейшее может быть отнесено только к сфере гаданий и индивидуальных восприятий. Так, например, несмотря на зафиксированные дневником Кузмина весьма неоднозначные его оценки христианства вообще и современного его отношения к нему в частности20, все-таки вряд ли можно полностью солидаризироваться с суждением М.В. Толмачева: «На христианстве, по крайней мере, на церковно-догматизированной ортодоксии, Михаил Алексеевич Кузмин, похоже, ставит крест. Религия для “лентяев”, “пролаз” <…> ему, как и его Нерону (II, 8) не нужна. Думается, что устами Нерона говорит сам Кузмин, когда тот заявляет: “Это невежественное месиво из всяких вероучений. То же, что там ново, под силу только очень сильным людям, высокостоящим”. Читая эти строки, сразу вспоминаешь высказывания начала века круга Мережковских о христианстве как религии для избранных. Но ни они, ни даже т.н. религиозный Ренессанс “серебряного века” практически ничего православной церкви не дали. К роковому рубежу 1917 года как русская церковь, так и русское “просвещенное” общество пришли совершенно неподготовленными, и это было предопределено всем предшествующим ходом их развития. Индифферентизм к официальному дореволюционному православию еще можно понять. Но отрицание за церковью возможности духовного возрождения в обстановке небывалых после первых веков христианства гонений на нее, пусть даже в виде безразличия или презрительной иронии к “попам”, сделало возможным самый размах этих гонений. К 1920-м годам о христианстве Кузмина можно говорить только в чисто условном, бытовом плане»21. Отождествление автора и его героя, тем более со столь сомнительной репутацией, как Нерон, не представляется сколько-нибудь перспективным путем.
В п е р в ы е: The Many Facets of Mikhail Kuzmin / Ed. By Lada Panova and Sarah Pratt. Bloomington, 2011. P. 61–72.






