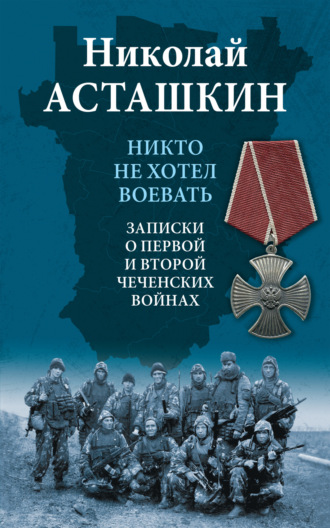
Николай Асташкин
Никто не хотел воевать. Записки о первой и второй чеченских войнах
Глава 2. Полигон
План – не догма…
Вместе с приказом о развертывании бригады из штаба Московского военного округа поступил план боевого слаживания, который не устроил ни комбрига, ни офицеров отдельных частей бригады.
– Увидев, кто к нам прибывает, – рассказывал генерал Булгаков, – я понял, что с таким планом мы не сможем качественно подготовить людей к предстоящим боям. Специалистов у нас, в принципе, нет, и работу нужно начинать с нуля…
Гвардии генерал-майор Булгаков собрал командиров отдельных частей, «афганцев» и обрисовал картину, от которой офицеры схватились за голову. «Ладно, не боги горшки обжигают, – сказал комбриг. – Если мы пойдем по тому плану, который нам передали, мы ничего за столь короткое время не сделаем, не научим людей воевать. Давайте думать, как выходить из ситуации. Мы были на войне и знаем, что нужно делать, чтобы солдат и задачу выполнил в бою, и сам не погиб».
Практически за ночь офицеры создали свою программу боевого слаживания, и сформированные батальоны начали по ней заниматься.
– По этой программе мы подготовили к предстоящим боевым действиям в Чечне почти всех специалистов, – признался Булгаков. – За исключением наводчиков-операторов БМП-2. На БМП стоит 30-миллиметровая пушка. Подготовить ее к бою не составляет труда. И стрелять из нее легко. А вот заряжать сложно, потому что есть определенные нюансы. Если ты, например, нарушил последовательность операций – все, пушка стрелять не будет. А зачем такая боевая машина пехоты, если ее мощная пушка, «тридцатка», не поддерживает тебя огнем в бою?
Правда, помощь бригаде оказывалась. Как-то комбригу позвонил замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-полковник Сергей Маев и спросил: «Что тебе нужно по технике?» Булгаков ответил: «Техника у меня, в принципе, новая, вышла с дивизией из Польши. Но при подготовке механиков-водителей почти на всех БМП оборвали правые фальшборта». «Это не страшно, – успокоил комбрига старший начальник. – Форсировать водные преграды не придется». И уточнил: «Механики у тебя откуда?» «Отовсюду», – ответил Булгаков. «В Моздоке у нас развернут ремонтный батальон, – обнадежил Маев, – в случае чего неисправную технику пропустим через него».
Между тем программа, составленная офицерами-«афганцами», пришлась по душе не всем. Например, полковнику из управления боевой подготовки Московского военного округа, который проверял занятия в одной из мотострелковых рот. Ему не понравилось, что ротный, игнорируя требования всевозможных наставлений и курсов стрельб, учил подчиненных тому, что необходимо на войне. Между ними возник конфликт, свидетелем которого стал генерал Булгаков. Подойдя к полковнику, Владимир Васильевич жестко сказал: «Вы или помогайте, или убирайтесь отсюда!..» Тот пожаловался на комбрига начальству. В приказе командующего войсками МВО генералу Булгакову был объявлен выговор, а его заместителям – строгие выговоры. В феврале 1995 года, когда бригада без потерь выполнила ряд важнейших боевых задач, приказ этот командующий отменил. Но факт остается фактом.
– Программа, по которой мы готовили людей к боевым действиям, в конечном счете помогла командирам подразделений и задачи выполнить, и людей сохранить, – заметил генерал Булгаков. – А воевали мы и в Грозном, и в предгорьях. И воевали, скажу, умело. Ту же лопату солдат уже не бросал. Знал, что лопата – его первая спасительница. За десять дней на полигоне, перед отправкой в Чечню, мы буквально вбивали в сознание каждого солдата такую мысль: «Парень, бросишь лопату – значит не сумеешь отрыть окоп и можешь погибнуть под обстрелом». А когда боец увидел, что на самом деле это так, то мог бросить все что угодно, но не лопату. Как только куда-нибудь прибывали, слезали с машин – и сразу к земле. Хоп, хоп, хоп – и вырыли окопчик! И не страшен им был ни огонь артиллерии, ни стрельба из минометов. Так что, чему научишь солдата на полигоне, то он и будет делать в бою. А что нужно солдату в бою? Замаскироваться. Защититься. Наблюдать. Определять цели, дальности до них, какие делать поправки при выстреле. В случае ранения оказать первую помощь себе или раненому товарищу, пока стрелок-санитар не приползет. Уметь обнаружить и уничтожить мины. Не разминировать! Накладной заряд взорвал – и пошел дальше…
Клятва гвардейца
В состав 166-й бригады входила разведывательная рота, которой командовал гвардии капитан Игорь Баталов – будущий Герой России! По его приказу комплектованием разведроты занимался гвардии старший лейтенант Алексей Тихонов, командир разведывательного взвода наблюдения (РВН).
Ныне Алексей Тихонов – полковник запаса.
– Временный пункт приема личного состава располагался в спортзале, где я находился неотлучно, – рассказывал он. – Ведь команды могли прибывать и ночью. При подборе людей меня в первую очередь интересовали сержанты – у них имелся хоть какой-то армейский опыт. Затем обращал внимание на тех солдат, кто горел желанием попасть в разведку – силой в роту мы никого не тянули. В общем, собирал «сливки» из прибывавших на пополнение бригады солдат. Ну и, конечно, нажил врагов – танкисты и артиллеристы на меня буквально взъелись. Даже пожаловались генералу из штаба округа, который проверял бригаду. Он зашел в спортзал и учинил мне разнос: стал кричать, угрожать, что снимет с должности и разжалует. А я так спокойно отвечаю: «Не вам же, товарищ генерал, идти в Чечне в разведку, а мне». Поняв, что я буду стоять на своем, генерал направился к комбригу. Через некоторое время оба спускаются со второго этажа, а я стою у входа в спортзал. Комбриг: «В чем дело?» Я доложил: «Из состава прибывающих солдат подбираю наиболее подготовленных специалистов». «Продолжай заниматься», – сказал он и пошел дальше…
В этом поступке – весь генерал Булгаков. Пройдя войну в Афганистане, он знал цену инициативы командира, его уверенности в себе, понимал, что разведка – глаза и уши командира (а РВН Алексея Тихонова как раз и являлся такими «глазами и ушами»), оттого, наверное, и поддержал в возникшем конфликте командира взвода, а не заезжего генерала из Москвы.
Военная биография. Гвардии старший лейтенант Алексей Тихонов
Любопытная деталь биографии Алексея Тихонова. Родился он 1 января 1968 года в центральной районной больнице станицы Советской Ростовской области. Врачи нарекли новорожденного Алексеем – в честь его отца Алексея Николаевича Тихонова, который работал врачом скорой помощи, поставив, таким образом, родителей малыша перед фактом: «Алексей Алексеевич – и все!» Предки Тихонова (как по линии отца, так и по линии матери) – донские казаки. Один из его прадедов погиб в Первую мировую войну (погиб, со слов станичного атамана, в разведке), другой прадед оказался участником Вешенского восстании 1918 года и был расстрелян большевиками.
Родной дед Алексея Тихонова по линии отца, Тихонов Николай Васильевич, служил офицером контрразведки в штабе 3-го Украинского фронта, пропал без вести в марте 1944 года во время Одесской наступательной операции. Его внук, Алексей Тихонов, с детства мечтал посвятить жизнь служению Отечеству. Когда он окончил среднюю школу, то, не раздумывая, подал документы в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1989 году. По выпуску был направлен в Северную группу войск (Польша).
– В конце лета 1989 года в Северную группу войск прибыло много выпускников военных училищ, – рассказывал мне Алексей Алексеевич. – В отделении кадров 6-й гвардейской мотострелковой дивизии нас распределили по воинским частям. Несколько выпускников военных училищ, меня в том числе, забрали в 126-й отдельный гвардейский разведывательный батальон, где нас сразу стали называть гвардейцами. Не скрою, слышать подобное обращение было приятно.
Всех лейтенантов, прибывших в дивизию, сразу привлекли на учебно-методические сборы. И опять же, на общих занятиях старшие начальники, рассаживая нас в клубе или в актовом зале, всегда говорили: «Гвардейцы разведбата – сюда, гвардейцы полков – сюда», как бы подчеркивая нашу значимость. Хотя гвардейские знаки нам еще не вручили, но нас уже относили к этой категории военнослужащих. Видимо, такое отношение к гвардейцам осталось со временем войны – отношение, рождавшее в гвардейцах дух ответственности за порученное дело.
Когда дивизионные сборы закончились, нас, лейтенантов-разведчиков, вызвали на сборы разведывательных подразделений Северной группы войск. И только после их завершения мы вернулись в часть, где нам объявили день посвящения в гвардейцы. От этой новости нас, конечно, охватило волнение. И вот этот торжественный день настал. Личный состав нашей отдельной гвардейской части выстроился на плацу. Мы, вновь прибывшие лейтенанты, стояли в своих подразделениях в парадной форме. Под звуки марша на плац вынесли Боевое знамя части – с орденами и гвардейскими лентами. Выступавшие на митинге говорили о гвардейцах, для которых защита Отечества – священный долг, что гвардейцы – это честь и ответственность перед Родиной, что гвардейцы – элита Вооруженных Сил. От таких слов, признаюсь, мурашки бегали по коже.
А затем каждого из нас, лейтенантов-новичков, стали вызывать из строя к трибуне. Рядом с ней стоял стол, на котором были разложены гвардейские знаки и небольшие сувениры. Развернувшись лицом к строю, мы сняли фуражки и преклонили колено. Один из лейтенантов зачитал «Клятву гвардейца». Встав по команде, мы развернулись лицом к трибуне, и командир части вместе с подполковником из разведотдела дивизии по очереди вручили нам гвардейские знаки и небольшие подарки. После чего командир разведбата и офицер штаба дивизии поздравили нас с высоким званием гвардейцев…
– Я до сих пор помню этот торжественный день, – признался Алексей Тихонов. – Со временем подобные мероприятия куда-то исчезли, как исчез и сам гвардейский дух в армии. Позже, став командиром гвардейского полка, я возродил в своей части посвящение в гвардейцы. В торжественной обстановке мы вручали гвардейские знаки личному составу полка…
За смелость и решительность, проявленные в боевой обстановке, Алексей Тихонов награжден орденом Мужества.
Вопрос ребром
Наиболее критическая ситуация с укомплектованием сложилась в инженерно-саперной роте. Командирами взводов здесь были «пиджаки», то есть офицеры, окончившие военные кафедры гражданских вузов, а ротой командовал выпускник военно-строительного училища. Начальник инженерной службы бригады гвардии подполковник Анатолий Степанов, прошедший Афганистан, поставил вопрос ребром: в Чечню поеду только с кадровыми офицерами, окончившими инженерные училища.
Военная биография. Гвардии подполковник Анатолий Степанов
Анатолий Андреевич Степанов родился 24 марта 1951 года в Тюменской области. Село Пеганово Бордюжского района, где прошло его детство, – край лесов, озер и болот. От родителей, потомственных крестьян, Анатолий взял лучшие качества – умение работать с полной отдачей, ответственное и неравнодушное отношение к делу, которым занимаешься.
В 1968 году, получив в средней школе аттестат зрелости, Анатолий поступил в Тюменское высшее инженерно-командное училище, которое окончил в 1971 году. С 1971-го по 1979 год проходил службу на различных командно-штабных должностях в Среднеазиатском военном округе. С 1979-го по 1981 год участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. В 1981 году по замене убыл в Одесский военный округ. В 1989 году заочно окончил Военно-инженерную академию. В июне 1990 года подполковник Анатолий Степанов убыл для дальнейшего прохождения службы в Северную группу войск, где был назначен на должность начальника инженерной службы 6-й гвардейской мотострелковой дивизии. На новом месте службы гвардии подполковник Анатолий Степанов показал себя с самой лучшей стороны.
Генерал Булгаков о нем сказал так:
– Анатолий Андреевич не просто обучал подчиненных военному делу, а учил их тому, что необходимо на войне.
В Тверской области, куда с февраля 1992 года стали прибывать из Польши первые эшелоны 6-й гвардейской дивизии, горели торфяники. Сгружая технику с платформ, механики-водители отгоняли танки и БМП на необорудованные еще стоянки, а дорожная и землеройная техника (а также машины, которые могли возить воду и тушить огонь) прямиком шла в районы пожаров. Но тушить торфяники водой нельзя. Поэтому личный состав дивизии, выделенный на борьбу с огнем, применял взрывной способ.
– В шурфы закладывали взрывчатку и подрывали, – пояснил Булгаков. – Во-первых, сам грунт тушил пожар, а во-вторых, вода, которой заполняли образовывавшийся от взрыва ров, гасила тлеющий под землей торф. В Твери, как только приезжаю туда, об этих взрывах сразу вспоминают. Тогда многих офицеров и солдат, участвовавших в ликвидации пожаров, представили к государственным наградам, вручили ценные подарки, денежные премии…
После переформирования дивизии в бригаду гвардии подполковник Анатолий Степанов был назначен начальником инженерной службы 166-й омсбр. В сложные дни декабря 1994 года, когда бригада готовилась к убытию в район боевых действий, офицер-«афганец» Степанов работал днем и ночью, готовя саперов к предстоящим испытаниям в боевых условиях.
Из газеты «Красная звезда»
«Подполковник Анатолий Степанов, начальник инженерной службы бригады, основываясь на личном опыте ведения боевых действий в Афганистане, организовал инженерное обеспечение боевых действий бригады, лично участвовал в организации инженерной разведки объектов и местности, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов. Под минометным огнем и огнем снайперов с риском для жизни принимал участие в разминировании жилых кварталов в районе площади Минутка в Грозном. Саперами под его руководством было обезврежено 150 взрывоопасных предметов и уничтожено семь дудаевских боевиков. Награжден орденом Мужества».
За свою безупречную службу в рядах Вооруженных Сил страны Анатолий Андреевич Степанов награжден государственными наградами, в том числе орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.
Без права на ошибку
Первым из кадровых офицеров инженерных войск в 166-ю омсбр прибыл гвардии старший лейтенант Валерий Клейменов. Вот его послужной список. Родился 16 апреля 1968 года в городе Светлый Калининградской области. В 1992 году окончил Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск имени А. А. Жданова. Военную службу начал в 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде Западной группы войск в должности командира инженерно-саперного взвода. В мае 1994 года бригада из Германии вышла в город Ростов Великий Ярославской области, где Валерий Клейменов продолжил службу в должности командира инженерно-позиционного взвода.
С конца декабря 1994 года старший лейтенант Клейменов был откомандирован на доукомплектование инженерно-саперной роты 166-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Московского военного округа. Награжден государственными наградами, в том числе орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Ныне Валерий Анатольевич Клейменов – майор запаса. Когда я попросил его поделиться воспоминаниями о действиях саперов в период первой чеченской кампании, он сразу согласился. Его письмо, насыщенное интересными фактами, получилось объемным, поэтому текст его воспоминаний я буду приводить в книге частями.
Итак, Валерий Клейменов прибыл в Тверь 28 декабря 1994 года. В тот же день с ним побеседовал начальник инженерной службы бригады гвардии подполковник Анатолий Степанов…
Майор запаса Валерий Клейменов пишет: «…Анатолий Андреевич побеседовал со мной и кратко объяснил задачу по формированию роты. Так как командир роты еще не прибыл, то исполнять его обязанности гвардии подполковник Степанов поручил мне. Старшиной роты согласился отправиться в Чеченскую Республику штатный старшина роты гвардии прапорщик Игорь Иванюк. Солдаты уже прибывали, и старшине роты надо было решать многие проблемы: получать вооружение, имущество, готовить технику.
Ну а кто прибывал в бригаду? Приведу такой пример. Еще в Ростове Великом для укомплектования штата инженерно-саперной бригады прибывали солдаты из других воинских частей. Присылали не специалистов, которые нам требовались, а тех, кто не нужен был в частях. В основном нарушители дисциплины, кто не желал учиться военному делу. В одной из таких команд прибыл и рядовой Жданов – стрелок.
Зачем в инженерно-позиционном батальоне стрелок? Правильно, незачем. Промучившись с ним пару месяцев, его и подобных ему солдат отправили для дальнейшего прохождения службы в другую часть. К чему я веду? А вот к чему. Когда гвардии прапорщик Иванюк доложил, что в роту прибыло пополнение, я отправился знакомиться с личным составом. Передо мной стояла не воинская команда, а толпа людей, одетых в военную форму. Ну а когда из этой толпы «выпало» тело стрелка Жданова с возгласом: «Товарищ старший лейтенант!..» – мне стало понятно, с кем предстояло служить. Впоследствии, правда, большинство этих солдат оказались отличными ребятами, но чтобы добиться этого, пришлось нам, офицерам, попотеть на полигоне.
Первое время они изредка проверяли нас, офицеров, на внимательность. Припоминаю такой случай. Проводя занятия по подрывным работам, я раздал солдатам по одной тротиловой шашке, и саперы стали изготавливать огневую трубку. Я подходил к каждому бойцу и проверял, как он выполнял задание. После чего мы должны были выдвинуться на боевой рубеж для подрыва зарядов. Заглянув в ящик с тротиловыми шашками, я обнаружил, что одной шашки не хватает. А я еще с училища усвоил правило: выдал шашки, пересчитай, сколько осталось, и уточни, сколько должно быть после последней выдачи. Так я поступал не из-за недоверия к бойцам, а для порядка. Ведь не зря говорят, что сапер ошибается один раз. Пришлось остановить занятие и обратиться к солдатам. В результате шашка была возвращена.
…Через два дня из города Владимира прибыл второй командир инженерно-саперного взвода – гвардии старший лейтенант Алексей Ярцев. Как оказалось, Леха тоже служил в ЗГВ в 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде, правда, там нам не пришлось пересечься. Затем из Нижнего Новгорода прибыл гвардии старший лейтенант Володя Левкович, с которым я был знаком еще со времен службы в 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде…»
В конце декабря 1994 года гвардии рядового Алексея Чернова, прибывшего из города Богучар Воронежской области, зачислили наводчиком-оператором БТР-80 в инженерно-саперную роту.
– Что запало в память? – повторяет Алексей мой вопрос. И, секунду подумав, отвечает:
– Прежде всего, острое желание офицеров роты научить наше разношерстное войско саперному делу. Ведь многие из нас, что уж скрывать, саперов видели только в кино. Обучение на полигоне организовал начальник инженерной службы бригады гвардии подполковник Степанов. Офицеры учили нас, не жалея сил. И, надо отдать должное, научили воевать, сохранив нам жизни. Дай бог им здоровья! А кто ушел в мир иной – вечная память!..
Надо сказать, что гвардии рядовой Алексей Чернов воевал так, как и положено гвардейцу, – со знанием дела. За свои подвиги на поле боя он заслужил орден Мужества и медаль «За отвагу».
Беседуя о том периоде с генералом Булгаковым, я спросил:
– Владимир Васильевич, кого из офицеров можно отметить особо? – Да любого! – воскликнул он. – Все работали на сто процентов. Большинство офицеров и прапорщиков у меня были «афганцы». Они знали, что такое война и что значит идти в бой с неподготовленным, необученным солдатом. Поэтому на полигоне они работали с подчиненными на совесть. Семь потов с себя согнали, а солдат к бою подготовили! Какие вопросы успели отработать? Наблюдение за полем боя, обнаружение противника, определение дальности до цели, взаимозаменяемость. Люди у меня стреляли из любого вида оружия…
Бойцы стреляли днем и ночью
Одними из первых на полигон убыли разведчики.
– Как только сформировали роту, сразу вышли на полигон, – сказал Алексей Тихонов. – Жили в лесу. Развернули палатки, натаскали елового лапника, который служил нам вместо постели. Времени было в обрез, поэтому работали днем и ночью. Каждый командир разведывательного взвода занимался с подчиненными по плану, утвержденному начальником разведки бригады гвардии майором Ильей Касьяновым…
Полигон – не театр военных действий, на нем нет ни разрушенных домов Грозного, ни догоравших остовов танков и боевых машин пехоты, каких было не счесть на улицах чеченской столицы после неудачного новогоднего штурма города. Как создать признаки разрушений? Как воспроизвести картину войны, воздействуя на чувства солдата? В общем, действовали по принципу: «чтобы изобразить настоящий бой, надо поставить солдата в условия большого напряжения».
– Бойцы у меня стреляли днем и ночью, – продолжал Тихонов. – Автомат для многих из них стал, как у нас говорят, частью тела. К концу первой недели многие из них валились с ног…
К тому времени на полигон вышла почти вся бригада. Поэтому лес напоминал муравейник, где в разные стороны перемещались колонны бойцов. Разведвзвода отрабатывали задачи самостоятельно, каждый на своем месте. Полигонного оборудования не хватало, поэтому приспосабливались к «местным условиям». Например, вышку автодрома, которая находилась в стороне от полигона, использовали в качестве «высотного здания». На ней находился начальник разведки бригады гвардии майор Касьянов, имитировавший действия боевиков.
Занятие проходило по такой схеме. Взвод делился на группы, а каждая группа – на подгруппы: нападения, огневой поддержки и обеспечения. Для усиления своих подгрупп разведчики использовали и тренировались с гранатометами и огнеметами. Все это им потом пригодилось в боевых условиях.
– План захвата вышки давался нам на самостоятельное решение, – заметил Тихонов. – И мы, естественно, включали мозги, тщательно планировали подходы к вышке, порядок действия подгрупп. Разведчики двигались тихо, как призраки. И если Касьянов обнаруживал группу, то открывал огонь холостыми патронами. Ни в одном наставлении такого норматива не было. Только после Чечни появились домики на направлениях стрельбы и нормативы по огневой подготовке для малых тактических групп. А мы уже тогда это практиковали, потому что жизнь того требовала…
Днем и ночью работали разведчики и на войсковом стрельбище. Упражнения по огневой подготовке бойцы выполняли по сжатому графику и специально продуманным правилам. Здесь же регулярно доводили до личного состава информацию, полученную из Грозного. Это подстегивало людей, создавало на занятиях атмосферу морального напряжения. Каждое слово офицеров бойцы ловили на лету. Разведчики до автоматизма отрабатывали навыки, необходимые для реального боя.
Основная нагрузка в этой работе легла на плечи командиров разведвзводов. Их в роте было четверо – гвардии старшие лейтенанты Андрей Денищук, Руслан Носков, Андрей Козлов и Алексей Тихонов. Начну с последнего, так как о первых трех офицерах и их подчиненных я расскажу ниже.
Итак, РВН – разведвзвод наблюдения. По штату в нем числилось 20 человек – командир взвода, замкомвзвода и три отделения по шесть человек. Вооружение: одна БРМ-1К (боевая разведывательная машина) и две БМП-2 (боевая машина пехоты). Из спецоборудования: комплект разведывательно-сигнальной системы «Реалия-У» с тремя типами датчиков (акустическими, сейсмоакустическими и магнитно-кабельными); переносные станции наземной разведки ПСНР-5 (три единицы – в десантных отделениях каждой машины); тепловизор – один на взвод; три ночных бинокля БН-1; лазерные приборы разведки ЛПР-1 «Каралон-М» (три единицы). Дополнительно (на БРМ-1) входила радиостанция Р-148, которая применялась в звене рота – взвод.
Сложная аппаратура, которой был буквально напичкан РВН, требовала от бойцов специальной подготовки (их должности так и назывались – разведчики-операторы). Чем гвардии старший лейтенант Алексей Тихонов на полигоне и занимался. Первыми его помощниками в этом деле стали гвардии сержанты Александр Бесперстов (замкомвзвода) и Михаил Тареев (командир отделения). Наиболее подготовленными разведчиками во взводе считались гвардии рядовые Антон Митрофанов, Дмитрий Ионов, Леонид Бабаев и Дмитрий Бочкарев. Среди наводчиков-операторов Тихонов похвалил гвардии рядовых Романа Нугманова и Виктора Джафарова, которые за короткое время в совершенстве освоили «тридцатку» – автоматическую пушку 2А42 и были в разведроте, пожалуй, лучшими специалистами среди этой категории солдат срочной службы. До сих пор признателен полковник запаса Алексей Тихонов контрактникам Олегу Белову и Сергею Терентьеву, которые в период подготовки на полигоне занимались с новичками, прибывшими в разведроту, а в Чечне выполняли самые ответственные задания.
Если же говорить в целом о боевом коллективе, то разведчики действовали на полигоне четко и слаженно. Командир роты гвардии капитан Игорь Баталов отдавал по радио команды, и боевые машины разворачивались во взводные колонны и кружили вдоль берега Волги. Механики-водители и члены экипажей тренировались быстро выполнять те или иные действия. Наводчики-операторы, имитируя огонь по указанным ориентирам, загружая и разгружая ленты («крабы») 30-мм автоматической пушки 2А42, разбивали руки в кровь, не обращая на это внимание. Потому что пусть лучше здесь, на полигоне, они разобьют руки в кровь, чем поедут в Чечню неподготовленными солдатами и окажутся легкой добычей боевиков.
Основательно готовили разведчиков и для действий в ближнем бою. Генерал Булгаков пробил для бригады пару десятков новеньких, еще в заводской смазке «Винторезов», предназначенных для бесшумной стрельбы. К ним получили на складе вооружения ночные прицелы и очки ночного видения «Квакеры». Навыки, приобретенные в работе со специальным вооружением и с ночными приборами, пригодились позже, когда разведчики действовали в Грозном и брали высоты в районе Новых Промыслов, о чем расскажу позже.
Любой разведчик, включая механиков-водителей, должен уметь обращаться с радиостанцией, поэтому приходилось на полигоне работать и в этом направлении. Командиры разведвзводов учили своих ребят и тому, как работать с разведывательно-сигнальной аппаратурой «Реалия-У». Хотя эта система в ходе боевых действий использовалась редко, в основном для того, чтобы перекрыть подходы к дислокации разведчиков в полевых условиях.
Именно там, на полигоне под Тверью, из разношерстного войска начала зарождаться гвардейская бригада. Командиры всех степеней (от комбрига до взводного), прапорщики, сержанты, рядовые бойцы не заробели перед трудностями, не изменили присяге и солдатскому долгу, а продолжали напряженно готовиться к предстоящим боям.
Комбатовская спираль
Когда командир 2-го мотострелкового батальона подполковник Москаленко отказался ехать в Чечню, комбриг стал подыскивать ему замену. Брать человека со стороны не хотелось – в боевой обстановке требовался надежный, проверенный офицер, с которым, как говорится, не страшно идти в разведку. Выбор пал на замкомандира 3-го мотострелкового батальона гвардии подполковника Игоря Праволюбова, которого генерал Булгаков знал давно.
Военная биография Игоря Праволюбова типична для пехотного комбата тех лет. Родился он 18 июля 1955 года в селе Исеновичи Вышневолоцкого района Тверской области. В 1976 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Военную службу проходил на командных и штабных должностях в Белорусском, Прикарпатском и Московском военных округах. С декабря 1991 года находился в штате базы хранения военной техники (г. Тверь). С 1993 года – в 166-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Московского военного округа. Награжден государственными наградами, в том числе медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Подполковник запаса Игорь Праволюбов рассказывает:
– В начале 1992 года нашу базу хранения стали расформировывать, мне грозило увольнение из армии. И тут я краем уха услышал, что приехал генерал Булгаков с группой офицеров решать вопросы по выводу дивизии из Польши. Я, естественно, стал искать с ним встречи, надеясь хоть на какую-то помощь…
Дело в том, что Праволюбов познакомился с Булгаковым в 356-м мотострелковом полку Белорусского военного округа, куда Владимир Васильевич прибыл в 1979 году после окончания Военной академии бронетанковых войск. Сначала майор Булгаков был заместителем командира полка, а затем начальником штаба этого полка. В 356-м полку Игорь Праволюбов прослужил 13 лет – от взводного до комбата.
И вот неожиданная встреча в Твери.
– Я зашел в клуб, где генерал Булгаков проводил совещание, – продолжал Праволюбов. – Он меня узнал и попросил подождать. После совещания подозвал, поинтересовался, как дела. Я с места в карьер: мол, должность сокращается и со дня на день меня уволят. «Не уволят, – говорит он. – Я решу твой вопрос». Когда дивизию переформировали в бригаду, Булгаков ввел меня в штат бригады. Потом вызывает и говорит: «Знаешь, я нашел тебе должность. Пойдешь заместителем командира зенитно-ракетного дивизиона по тылу?» Отвечаю: «Пойду». На этой должности я пробыл год и два месяца. А тут Чечня. Он вызывает меня и спрашивает: «Поедешь?» «Конечно», – говорю. И сразу ставит меня заместителем командира 3-го батальона. 31 декабря мы вышли на полигон. Комбат гвардии подполковник Васильев поставил задачу тренировать бойцов в метании гранат. И тут, как снег на голову, новость: командир 2-го батальона Москаленко отказывается ехать в Чечню. Часов в 10–11 вечера звонит Булгаков и приказывает: «Срочно прибыть в бригаду!» Приезжаю, иду в клуб, где на втором этаже кабинет комбрига. Гвардии генерал-майор Булгаков встречает меня на первом этаже и говорит: «В моем кабинете командующий армией». И, пристально посмотрев мне в глаза, спрашивает: «Я тебя выручал?» «Так точно», – говорю. «Теперь ты меня выручай», – продолжает комбриг. «Есть!» – отвечаю. И он сразу ведет меня в свой кабинет, где представляет командующему: «Вот командир 2-го батальона». Тот спрашивает: «Вы поедете в Чечню?» Отвечаю: «Так точно!» Когда командарм уехал, комбриг говорит мне: «Езжай домой, а с утра готовь батальон к погрузке на железнодорожную платформу. Вы первыми идете на Моздок»…
Так для гвардии подполковника Игоря Праволюбова начался новый виток его комбатовской спирали. На этот раз в зоне боевых действий на территории Чеченской Республики.
Страх перед совестью
Судьба Алексея Ярцева – это судьба десятков, а то и сотен «летех»-взводных, брошенных затыкать кадровую брешь, образовавшуюся в связи с войной в Чечне. Родился Алексей Владимирович 22 октября 1969 года в городе Каменец-Подольск Хмельницкой области Украины. В 1990 году с отличием окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Первая офицерская должность – командир взвода управляемого минирования инженерной роты заграждений 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады Западной группы войск. С 1994 года – командир учебного инженерно-саперного взвода учебного инженерно-саперного батальона (г. Владимир). С конца декабря того же года – командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты 166-й омсбр. Награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».


