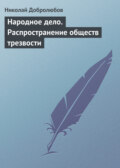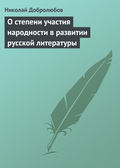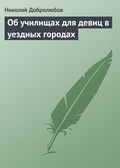Николай Александрович Добролюбов
Весна
На первом плане в противоречии с великокняжеской властью стояли слуги и бояре, сильные своим правом отъезда и мелкими родовыми притязаниями. Права последнего рода образовались от чинов и должностей дворового управления, сделавшихся наследственными. Родовая честь возникла здесь сама собою, приблизительно на тех же основаниях, на которых держится холопская гордость в частных вотчинах. Сын камердинера хочет быть не меньше как лакеем, и т. д. Центральная власть сломила эти мелкие, но упорные сопротивления и провела лично-зависимые отношения к служилым людям до крайнего результата, обратив бояр в холопов. Но зависимость эта все-таки была недостаточна, основанная преимущественно на политической силе, она не имела материальной опоры в самых социальных отношениях этого класса, а потому все-таки, как чисто личная зависимость, была шатка и ненадежна. Главным определяющим условием, как в отношениях служилых людей к верховной власти, так и в отношении земства к этому классу, должна была сделаться земля.
Тогда только могла родиться крепкая, надежная связь между этими общественными элементами, а верховная власть – поставить в прочную зависимость от себя все состояния и успешно действовать на них. Для этого нужно было, во-первых, прикрепить крестьян к земле; во-вторых, обложить право владения такими населенными землями обязательством царской службы.
Ограничения перехода видны во многих договорах московских князей; срок перехода определен в XV веке в «Судебнике» Иоанна III; меры закрепления являются с конца XVI века. Раздача вотчин тоже начинается с XIV века; в XVI усиливается и переходит из пожалованья уже в простую продажу, затем являются поместные оклады; так что в XVII столетии свободной казенной земли осталось уже чрезвычайно мало.
Сделав этот исторический очерк, не богатый фактическими подробностями, но группирующий факты, уже известные, несколько иначе, чем как это делалось прежде, г. Жуковский делает следующее заключение, которое, несмотря на очень тяжеловатую форму изложения, любопытно по некоторым из содержащихся в нем соображениям:
Таким-то образом к XVIII столетию сложилась на крепостных основаниях общественная жизнь России, и сложилась притом принудительно. Основания эти, как мы видели, не были следствием социального брожения, достигшего известных форм кристаллизации, если можно так выразиться, свободным произведением той союзной силы, более или менее присущей историческому народу, которая постоянно творит и разлагает, переливая нравственный быт данного народа из одной формы в другую, и в силу которой государство вырастает само собою из социальной почвы, как было там, например, где эта союзная сила была особенно присуща народному характеру, где народ, можно сказать, сам творил свою жизнь и где поэтому внешние события его жизни как политического тела всегда лежали на сердце этого народа. У нас, напротив того, союзная сила была слаба настолько, что она не могла сложить нашей жизни сама от себя. На западе России, где первые формы общежития в виде родовых общин явились как непосредственное данное, эти формы не могли развиваться далее самостоятельно. Сознавая свое бессилие, они сами призвали на себя внешнюю, централизующую власть, в бесплодной борьбе с которой потом прошел блестящий период их существования, кончившийся политическою смертию жизни, занявшейся здесь довольно шумно; а внешняя власть, в свою очередь, томясь в бесплодных спорах с историческим содержанием местной жизни, была отброшена на восток России и здесь заложила свой централизующий лагерь, перед которым в половине XVI века положила оружие беспокойная жизнь удельной России, кончая Новгородом и Псковом. Но здесь централизация не могла стать на степень народной власти и заложить среди всеобщего брожения народных масс, среди жизни кочующей, разложенной почти до просто собирательного отношения лиц, своеобразных общественных союзов, не наложив ярма крепостных отношений на все лица и состояния.
Таким образом, укрепление не ограничивалось одними крестьянами, а распространялось и на служилых людей; словом, им разрешался общий вопрос оседлости общественных масс – образования тех прочных поземельных отношений, которые не могли установиться сами собой, по малоценности земли, и образование которых, во всяком случае, было необходимо для крепости государства и централизации. После этого понятно, какую роль должен был играть в развитии русской социализации крепостной союз. Заложенный в корень общественных учреждений, он поневоле должен был проникнуть все стороны жизни, имея задачу вынести на своих тяжелых крыльях русскую жизнь из средневекового брожения в деятельность настоящего и прошлого столетий и дать России ту внутреннюю крепость и силу, которые позволили ей играть такую роль в судьбах Европы. Здесь фактами русской истории договорились мы до того положения, что государство должно опираться непременно на соответствующие ему формы социализации, а где этих форм не подготовила история, там государство, налагаясь сверху, неизбежно создает само себе своеобразную социальную почву. Такую-то социальную почву подготовила себе у нас центральная власть. И теперь она была сильна, она была народна и социальна потому, что народ принял как нельзя легче эти крепостные основания; бояре и земледельцы – все стало в поземельно-крепкие отношения к центральной власти.
С тех пор прошло почти два столетия. Русская жизнь, утвержденная на таких основаниях, все крепче и тверже привязывалась к ним, проводя и развивая их внутри себя до последних крайностей. Она не сделала шага в сторону от крепостных связей; напротив того, власть помещиков над крестьянами становилась все тверже, а они оставались все теми же усердными слугами центральной власти. Эта власть пробовала освободить их от обязательной службы, но обязательство это осталось социально во всей силе. Вместо с указом, разрешившим обязательную службу, вышли на сцену ордена, которые, вместе с чинами и опасением лишиться дворянского достоинства и поместья, в случае неслужения двух дворянских поколений сряду сделали то, что для дворянина поныне считаются возможным только два состояния: служба или управление своим поместьем. Та же власть пробовала вывести дворянство отчасти из его личного разъединения и дать ему вид и принадлежности сословия.
Обращаясь затем к дальнейшей деятельности центральной власти, мы видим, что, совершив дело общего закрепления, она оставила общественную жизнь развиваться по этим основаниям, а сама бросила Москву, бросила старую Россию и зажила европейской жизнью. Она имела свое XVIII столетие, свой век военных побед и внешней силы и славы, свою придворную хронику, свою литературу даже. Среди беспорядков, наполняющих историю первой половины настоящего столетия на западе Европы, она безбоязненно торжествовала, отдыхая на своих орлах, славу своего оружия н политическую силу. Но не оружие и не штыки дали ей эту крепость и силу, их дали те социальные основания, на которых держалась общественная жизнь народа, которым она правила.
В виду всего сказанного, в виду той роли, какую играли у нас вотчинные отношения, спрашивается теперь, можно ли смотреть на вопрос о них у нас как на застаревшее право, за пределы которого давно перешло социальное развитие страны, как на частное дело крестьян и помещиков? Не ясно ли только одно из предыдущего – что ближайшие результаты этого дела не разрешают еще вполне вопроса наших общественных отношений.
Итак, заключительное слово г. Жуковского то, что вопрос еще не разрешается вполне. Конечно, так; но из фактов, выставляемых самим г. Жуковским, ясно, кажется, что решение близко и что оно должно быть не в пользу централизации. По словам самого же г. Жуковского, «централизация подготовила себе социальную почву в крепостных отношениях и на этой почве могла спокойно строить свое внешнее могущество». Из этого можно бы, конечно, вывести заключение, что крепостные связи, глубоко укоренившись в русской жизни, должны оставаться неприкосновенными, как опора русского политического могущества. Но заключение это было бы справедливо только в том случае, если принять, что эти отношения вполне устроивают благосостояние народа и приходятся ему по духу и по нраву; а сам же автор статьи сознается, что указанная им социальная почва подготовлялась единственно в интересах центральной власти, а никак не в выгодах земства и что общественная жизнь России на крепостных основаниях сложилась принудительно, только вследствие отсутствия союзной силы в народе. Поэтому мы можем сказать, что социальное развитие страны вовсе не имеет надобности переходить за пределы наложенных на народ отношений, потому что оно никогда и не входило в эти пределы: ближайшие результаты, о которых говорит г. Жуковский в конце статьи, доказывают, что общественная жизнь народа уже не держится на тех социальных основаниях, которые созданы у нас централизациею. Значит, для народной силы нет никакой опасности от изменения этих оснований. Они нужны были для централизации и принудительно наложены ею на народ; но когда централизация совершилась и не нужна более для народного могущества, тогда естественно должны падать и опоры, на которых она держалась. На этом основании в вопросе, рассматриваемом г. Жуковским, мы, вовсе не заботясь о централизации, совершенно отделяем ее дело от дела народа. На стр. 273 г. Жуковский непомерно восхищается централизацией, говоря, что «ни один народ Европы не обязан ей столько своим развитием, как русские» и пр. … Но мы с ним в этом случае должны несколько разойтись. В прошлом месяце (в статье г. Чернышевского о г. Чичерине)[10] высказано было в «Современнике» мнение о французской централизации и, между прочим, показано, должно ли считать народ обязанным централизации за что-нибудь. Отсылая читателей к этой статье, мы здесь ограничимся замечанием, что и к истории Московского княжества можно относить некоторые из объяснений, сделанных г. Чернышевским относительно французской централизации. Впрочем, и сам г. Жуковский почти подтверждает это в тех местах статьи, где он говорит, что центральная власть действовала единственно в своих интересах… Да и невозможно, чтоб г. Жуковский вообще был поборником централизации: в его же собственной повести так ярко выставлены некоторые из нелепостей, происходящих вследствие ее!.. Он восхваляет ее, конечно, только в смысле исторического стимула народной жизни; но и то, по нашему мнению, несправедливо. Впрочем, вопрос этот может быть еще предметом многих рассуждений. Мы теперь заговорили о нем только потому, что нам хотелось бы, если возможно, предостеречь г. Жуковского от односторонних увлечений, в какие впадают иногда наши ученые, как, например, г. Чичерин. Вообще мы сочли нужным с некоторою подробностью рассмотреть оба произведения г. Жуковского в «Весне», потому что автор их, в первый раз, кажется, встречающийся нам в печати, принадлежит к таким явлениям в нашей литературе, которых не следует пропускать без внимания.