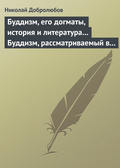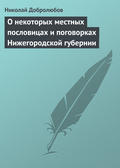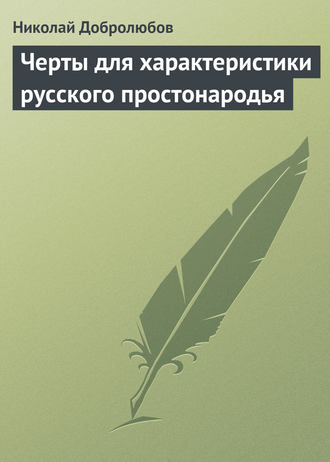
Николай Александрович Добролюбов
Черты для характеристики русского простонародья
Но отчего же Надёжа стыдится своего чувства, если оно так чисто? Да она и не то чтобы стыдилась, а ей просто чего-то неловко. Она живет как будто под влиянием той мысли, что на нее все подруги сердятся за предпочтение, оказанное ей Иваном, думают, что она его завлекла, и потом насмехаются над нею за неудачу… Болезненное развитие ее тонкой и нежной организации делает ее слишком робкою и подозрительною: она сама себя считает отверженной обществом. Притом же в ней действительно страдает ее достоинство: она вдруг очутилась в положении человека, которому ни с того ни с сего дали в обществе пощечину. Конечно, если рассудить хладнокровно, так это само по себе вздор: при обсуждении нравственного достоинства человека надо смотреть на то, заслуживал ли он быть битым; а там – бит ли он был в действительности или нет, – это уже другой вопрос, вопрос силы, а не права. Но спрашиваем: много ли в образованном обществе найдется людей, которые могли бы возвыситься над фактом пощечины и не сконфузиться – не только если самим придется незаслуженно получить ее, но даже если случится быть хоть свидетелями при подобном казусе?..
Здравостью и основательностью общественного мнения едва ли какое-нибудь сословие в общем составе своем может особенно похвалиться. Не могут ими похвалиться и простолюдины: тот же рассказ «Надёжа», рисуя нам отношения к ней подруг ее, показывает нам всю грубость и ошибочность их суждений. Это обстоятельство не осталось для нас незамеченным, и мы не намерены его оправдывать, хотя и должны оговорить, что подобного рода ложные и невежественные понятия гораздо простительнее крестьянам, нежели другим, высшим классам общества, имеющим претензию на образованность. Мы уже говорили выше о том, как много препятствий в своем развитии встречает крестьянин и как много внутренней силы нужно ему иметь для того, чтобы уберечься от полного подавления в себе здравого смысла и чистой совести. И при этом-то положении все еще мы видим здесь существование таких натур, в которых хоть слабо и неровно, но неугасимо горят живые человеческие инстинкты, так что оскорбление и неудовлетворение их влечет за собою смерть самого организма. Такие лица, как Надёжа, с первого взгляда представляющиеся исключительными, оказываются, при внимательном рассмотрении обстоятельств и характера, вовсе не так редкими в крестьянском сословии, как мы привыкли думать. Повторяем, если не чаще, чем в среде благовоспитанных юношей и барышень, то по крайней мере столько же часто встречаются деликатные натуры, подобные Надёже, и в простонародье. Да ещё это пассивная сторона, пассивная роль подобных натур. Сама по себе Надёжа прекрасная личность; но ее надо покоить и лелеять, и от нее за то дожидаться нежности и ласки. А чуть на нее невзгода, она и сожмется вся, и спрячется самое себя, и ничего, кроме горьких слез, от нее не добьешься… Бывают в простонародье натуры столько же нежные и благожелательные, но поэнергичнее, подеятельнее. Такие натуры тоже не покажутся совсем непонятными тому, для кого не совсем чуждо изучение нашего простонародья. Одну из таких личностей видим мы в «Катерине» Марка Вовчка. Катерина тоже очень чутка к насмешкам, упрекам и даже простым шуткам, имеющим самый невинный характер. Еще маленькой девочкой привезла ее барыня из Малороссии в великорусскую деревню: здесь показались странными – и ее язык, и рубашка вышитая, и взгляд томный и задумчивый… Стали ее тормошить девчонки и смеяться над ней. Само собою разумеется, что у маленькой девочки не могло быть твердого разумного сознания о смысле и достоинстве всего, что она делает; она не могла, подобно философу какому-нибудь, продолжать делать свое, презирая крики толпы; она должна была принимать к сердцу выходки подруг. Если б она была сварлива, она стала бы со всеми ссориться и защищать себя силою; но ее деликатность, инстинктивное уважение к себе и к другим не допускали ее до этого. Потому она просто переставала делать то, что другим казалось странным или смешным. Осмеяли раз ее рукавчики шитые на рубашке – она больше ни разу не надела своей вышитой рубашки. Подкараулили ее раз у курганчика, к которому она одна уходила, и подслушали малорусскую песню, которую она там пела, да стали приставать к ней и расспрашивать – она перестала ходить к кургану и никогда больше не пела той песни… Но, вместе с этой чуткостью ко всякому внешнему впечатлению, Катерина обладала внутреннею силою, которая непременно требовала себе исхода, непременно должна была выразиться в какой-нибудь деятельности. Долго обстоятельства жизни шли наперекор стремлениям Катерины: ее увезли с собой господа в другую вотчину, незнакомую; ее выдали замуж за человека, которого она не могла любить. Она никому не пожаловалась на свою судьбу, слова не сказала о своем житье-бытье, никого не допустила даже пожалеть ее в глаза, и с мужем не ссорилась, а «только опустит глаза и неподвижная такая станет, строгая и суровая перед ним»… Хотелось ей найти себе какое-нибудь дело в жизни, да не находилось такого дела. Выучилась она петь хорошо, так что душа рвалась и томилась от ее песен. На все свадьбы ее первую приглашали, и она пела там грустные песни и душу отводила себе. Да не довольно ей было этого: тяжко ей было до того, что она было пить приучилась. Раз ей сказала подружка: «Катерина, голубушка! не пей много: тут чужие люди есть – осудят тебя; лучше ты спой нам!» Тогда она ответила вот что: «Ах вы, люди безжалостные! Все вам пой да пой, – отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчивого!» Горько, видно, казалось ей жить на свете без дела, без пользы. Так бы, может, и загубила она свою душу, да, к счастью, отыскалось ей дело: прослышала она про знахарку в околотке и решилась выучиться у ней лечить болезни; она же с малолетства имела страсть рассматривать да узнавать всякие цветы и травы. Вот как рассказывает сама знахарка о приходе к ней Катерины (стр. 57).
Приходит ко мне, спрашивает: «Как мне на свете жить?» А сама во все глаза глядит на меня, – перепугала. «Живи, касатка, как люди», – говорю. «Нет, скажи, как мне жить, мне!» – «Сядь-ко, говорю, да перекрестись, да молитву прочитай: на тебя напущено». Она села, перекрестилась и заплакала. А тут у меня травы висят по стенам и на окне на солнышке сушились. «На что тебе травы столько?» – спрашивает. «Людям помогаю». – «Помоги же и мне, родная!» – «Да что у тебя болит-то? скажи». «Душа моя болит!» – проговорила тихо, а у самой слезы потекли. «А голова не болит?» – «И голова болит, и вся я больна!» Вот я ей травку даю; она поклонилась и пошла. Я было вздремнула, слышу – опять стучатся, опять она. «Что тебе?» – «Научи меня, родная, какими ты зельями лечишь?» Я рассердилась и гоню ее, а она уж так-то плачет, разливается. «Не научишь, то убей меня тут! Все равно я пропаду… Я вот, говорит, уж сколько маялась на свете – все пусто да пусто, никого не радую, и ничто меня не веселит, и дела у меня нет душевного никакого». Я думаю – дуреет она, а жалко мне ее. Я там и показала ей кое-что, больше для утехи ее. «Где ж, думаю, ей запомнить!» А она ведь запомнила все. Начала, слышу, уж сама лечить: досадно мне и обидно было, что она у меня кусок хлеба отбивает. Раз она пришла, и полны руки трав. Я ее неласково встречаю, а она словно не видит. «Знаешь эти травы, бабушка?» – «Не знаю, говорю, да и знать не хочу». – «Нет, говорит, ты возьми. Я тебе это принесла. Полезные травы, целющие!» – «Ты на чем их испробовала-то, что ручаешься?» – «Да на себе, бабушка». – «Как на себе?» – «А так, говорит, ведь я прежде-то всегда сама попью; не свалит – тогда и людям даю». Удивила она меня, ей-богу! А говорит-то ведь так, что сердце ей верит… И вот с той поры она мне травы-то всякие носит. Спасибо ей, не обидела меня за мою науку.
И как только нашла себе Катерина «дело душевное», тотчас она и пить бросила, и ласковая такая стала, приветная. Сама за себя она стала спокойна, только чужая печаль все крушила ее и не давала ей покою. У всякого больного расспрашивала она прежде, нет ли у него печали какой. Одна больная сказала ей: «Что рассказывать-то? Чужая беда никому не разумна». – «Уж мне ли не разумна! – ответила Катерина: – мне ли не горька! Нету на свете белом, нету мне чужой печали, – всё моя печаль. Пожила бы ты с мое – узнала бы!» Больная удивилась и, вспомнив про мужа Катерины, которого та не хотела утешить и полюбить, как он ни любил ее, проговорила в виде возражения: «А муж-то твой?» Катерина не рассердилась, а только подумала немного и сказала: «И его печаль – моя печаль, да не мое дело помочь ему!.. Не своей волей за беду я ему стала; а у него воля была неразумная». Как ярко высказывается в этих простых словах сознательная, самобытная энергия характера Катерины!.. Она далеко выше, например, Игрушечки или Саши: она не даст распоряжаться своей душою, не предастся тому, с кем связала ее судьба против воли; она хочет всех любить, всех видеть счастливыми, но она ищет свободного простора для своей деятельности и любви. Если ее приведут насильно и скажут: «Осчастливь вот этого, а не того», – вся натура ее возмутится против такого насилия и при всей ее любвеобильности у ней недостанет сил для выполнения приказания. Мягкость и нежность ее натуры призывают ее посвятить себя на пользу ближних; но от этого вольного служения далеко до отречения от своей личности, до допущения себя сделаться игрушкой чужого произвола. Нет, в ней сознание своего достоинства, своей самостоятельности настолько же сильно, как и сознание кровного родства ее с людьми и взаимной обязанности людей поддерживать друг друга в общих трудах и заботах жизни. [Только благоприятных обстоятельств развития да более обширного круга деятельности недостает ей для того, чтобы занять высокое место в ряду лучших деятелей, которых память сохраняется в истории и в преданиях народных.] Редко встречаются лица, до такой степени чисто сохранившиеся от двух противоположных крайностей – от доведения благодушия до потери собственной свободы и от эгоистического возвышения собственной личности до забвения прав других. Но надо заметить, что редки они не в одном простонародии; во всех классах общества мы видим, к сожалению, что если в человеке преобладает доброта, то уж она до того доходит, что им все помыкают, а если в нем самолюбие сильно, то он над другими озорничает, сколько может. При таком ходе дел мы нередко еще удивляемся нравственным качествам иных людей за то только, что они не столько подличают или не столько вольничают над другими, сколько могли бы по своему положению. Так, мы восхваляем доброго помещика, берущего не слишком обременительный оброк с крестьян, честного откупщика, у которого в откупе продается сносная водка, [чиновника, хотя и кривящего душою по приказу начальства, но умеющего держать себя не слишком по-лакейски,] и пр. и пр. Принужденные иметь такую мерку для оценки нравственного достоинства людей среди нашего общества, мы должны быть очень довольны, когда видим хоть возможность появления в крестьянском сословии таких личностей, как Катерина. Если бы из таких людей состояло большинство, то, конечно, история, не только наша, но и всего человечества, имела бы совсем иной характер. Нам важно уж и то, что под грудою [всякой дряни,] нанесенной с разных сторон на наше простонародье, мы в нем еще находим довольно жизненной силы, чтобы хранить и заставлять пробиваться наружу добрые человеческие инстинкты и здравые требования мысли. Часто эти обнаружения природных сил бывают слабы, едва приметны, часто замирают, едва пробившись на свет божий; редко сохраняются они так упорно против всех невзгод, как мы видели в Маше и Катерине. Но и то уже много, если мы заметим хоть в слабой степени присутствие в народе тех начал, которые так ярко выражались в этих двух женщинах. А что мы их заметим, если будем внимательно и с любовью наблюдать быт простонародья, – за это можно смело ручаться. Затем уж не трудно нам будет сообразить, отчего развитие этих начал в народе по большей части останавливается так рано и нередко совсем заглушается; не хитро также будет понять и то, в какой степени сам простолюдин бывает виновен в неполноте или совершенной остановке своего развития и в какой степени виноваты в этом мы все, причисляющие себя к людям образованным. Удостоивши же подумать об этом, мы должны прийти к вопросу о том: что нам делать, чтобы устранить по возможности все, что [так страшно] мешает развитию хороших качеств народа?
Вопроса этого мы не станем решать здесь; решение его несравненно легче вывести, нежели [понятным образом] написать [в русской книге: длинная и трудная может из этой выйти история!]. Но мы можем здесь еще раз обратить внимание читателей на мысль, развитие которой составляет главную задачу этой статьи, – мысль о том, что народ способен ко всевозможным возвышенным чувствам и поступкам наравне с людьми всякого другого сословия [, если еще не больше,] и что следует строго различать в нем последствия внешнего гнета от его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не заглохли, как многие думают. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тот почувствует в себе более доверия к народу, больше охоты сблизиться с ним, в полной надежде, что он поймет, в чем заключается его благо, и не откажется от него по лени или малодушию. С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно [, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, которому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей.