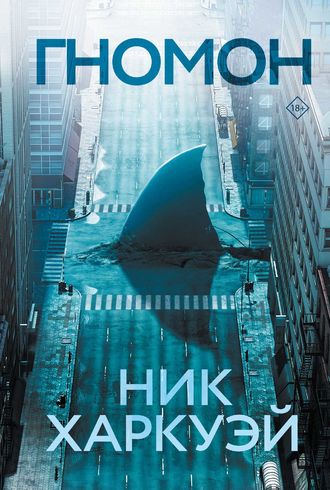
Ник Харкуэй
Гномон
– За ним присматривай, – говорю я отцу Карасю, на лице которого написан непритворный ужас. – У него огонь в глазах и фаллос пьяного сатира за поясом. Дай ему пять минут наедине с ней, и он ее не просто отымеет, она забеременеет, и тогда беда нам. Верно, легионер?
Мальчик из Третьего Августова решительно мотает головой, но остальные уже заулыбались, и зловещая красота Чертога больше не единственная сила в этом зале. Теперь тут караульный пост, скоро в углу начнут играть в кости между дежурствами. Хорошо. Нужно сделать еще одну вещь, чтобы и последствия были только хорошими.
– Кто с ним в одном взводе? Ты? Отлично. Это Карфаген, солдат, познакомь его с какой-нибудь добросердечной женщиной из тех, что позируют художникам, иначе всем нам грозит опасность!
Снова смех, громче и искреннее. Знакомая территория.
Девичье тело – хо-хо-хо – проглотит мальчика заживо самым лучшим образом. А мы теперь семья, все занимаемся семейным делом – завести этому парню его первую девушку, и весь зал принадлежит нам. Я отмахиваюсь от этого и ворчу: «Свободны!», а они принимаются за свои дела. Настроение в зале улучшилось. К чести отца Карася, скажу: он понял, что случилось, и смотрит на меня уважительно.
Мы обходим Чертог, чтобы я могла осмотреть его со всех сторон. На сиську он, конечно, не очень похож, но работать приходится с тем, что есть.
Ко входу ведет широкий желоб, прорезанный в ровном полу, и я с запозданием понимаю, что Сципион – а это был его дом – настелил новый пол на уровне груди от старого, чтобы разместить свое сокровище. Мы идем по помосту, как в театре, и шаги эхом отдаются внизу. Моя фантазия всегда помогает в трудный момент и тут же подбрасывает примеры египетских погребений с ядами, шипами, кольями, ловушками и скрывшимися в темноте крокодилами, которые вот-вот взломают настил в поисках поживы.
– Ты здорова, мудрая? – спрашивает отец Карась.
– Здесь что-то есть, – отвечаю я, потому что это и очевидная истина, и в потенциале глубоко духовное суждение. Так я мошенница или ученая женщина? И та, и другая, само собой, как все мы. Я не верю в половину того, что знаю. А половину того, во что верю, не могу доказать. Что до остального, надеюсь проскользнуть в мутной воде так, чтобы никто не обратил внимания на мои ошибки.
– Мы были вместе в Чертоге, – говорит Карась, – обсуждали его чудеса. Изображения и слова. И… но ты сама увидишь. Он был точно ребенок с новой игрушкой или юноша перед встречей с невестой. Он так радовался. А потом… я не услышал ни звука.
От одного воспоминания он вжимает голову в плечи.
– Они пробыли там одни около минуты, – заявляет статный легионер. – Не больше. Я ушел, чтобы принести воды для питья.
Карась кивает:
– Быстро. Без всякого предупреждения. Я почувствовал запах крови, мудрая. Нутром понял прежде, чем увидел очами. И все равно я был не готов.
– Теперь ты готов, – говорю я ему.
Он поднимает глаза и понимает, что я имела в виду: теперь у него есть я, и от этого ему становится легче.
Увы, чужой страх я способна изгнать, но со своим ничего не могу поделать.
Отец Карась согласно ворчит, и, наскоро убедившись в отсутствии крокодилов, мы ныряем в желоб.
* * *
Чаще всего его называют Чертогом Соломона, но история гласит, что он принадлежал вовсе не Соломону, а его жене. Ее звали Тарсет, и она была дочерью египетского фараона. Думаю, для Тарсет было сильным потрясением выйти замуж за Соломона и оказаться одной из сотен других жен – уже не говоря о том, что в Египте женщины имели ровно те же права, что и мужчины, а в царстве Соломона – отнюдь нет. Ее обвиняют в том, что она склонила мужа к идолопоклонству, но мне кажется, это значит, что она просто заставила его себя уважать.
Но отложим сравнительный анализ брачных обычаев древнего мира: сам Чертог якобы был даром женщинам Египта от богини-матери, Исиды, и говорят, что внутри него течение времени останавливается, поэтому становится возможна высшая магия. Исида, разумеется, существовала прежде Марии, матери Иисуса, но Бог пребывает вне времени, и в Его длани Мария расходится от своего вознесения вспять до самого Сотворения мира так же, как и вперед на всю вечность, и любит и своих предков, и своих детей, и чад своего Сына. Таким образом, Исида, языческая колдунья, превращается в скрытый лик Богородицы, и это закрывает все вопросы с церковной политикой Римской империи на востоке.
В полном соответствии с описанием Чертог имеет в сечении круг и накрыт куполом. Написано, что молящийся входит в него снизу, дабы узреть улыбающийся лик богини, изображенный на потолке серебряным узором по полуночно-черной мозаике из ляпис-лазури. Купол украшен алмазами, закрепленными по форме созвездий. На стенах – изображения четырех кардинальных душ: двое мужчин, женщина и четвертая фигура, которая может быть равно мужчиной и женщиной, и все они рассыпаны по истории. Вместе с Богиней они суть мост между божественным миром и преходящим, и все они, даже Она сама, скрыты в тени Пентемиха, тоже сокрытого, так что это самый невидимый пантеон из всех существующих. Божественная Мать касается духом остальных четверых, а они в ответ дают ей: материю, дабы из нее сотворить землю; гармонию, дабы сотворенное не разрушилось; и смерть, дабы ни одна вещь не поглотила все иные. Здесь, в этом Чертоге, рождаются ангелы, погибают демоны, а чудеса выпекаются, как пирожки на рынке. Знающий свое дело алхимик способен произвести внутри Чертога эликсир, замедляющий старение и возвращающий юность; претворить болезнь в здоровье; исцелить всякую рану и даже воскресить мертвого. Но величайший дар Чертога – это вечный Алкагест, Универсальный Растворитель, который освободит всякого пленника и растворит не только любую плотную материю, но и клятвы, проклятия, царства, годы и века, даже самое адское проклятие. В прямом смысле Алкагест – это сила Бога. С его помощью можно отменить первородный грех и сделать мир новым раем, обрушить небеса или запечатать бездну навеки, сохранив Сущее от Грядущего. Алкагест – чернила, которыми Исида пишет книгу судеб. Это слезы, упавшие с век Богородицы в день Распятия.
Если у вас есть мозги, вы наверняка гадаете, почему я не радуюсь тому, что нашла Чертог. Ведь я – женщина, которая пойдет на все, чтобы обратить время вспять, исцелить своего больного сына и навеки сберечь это мгновение, жить в нем со своей любовью и маленькой семьей в вечном довольстве. Или только кое-что из этого, ибо, как я поняла, я ценю то, чем стала, куда больше, чем то, чем была тогда. Может, хватит и моего сына. Это будет мой рай, и, чтобы его получить, я готова за волосы тащить всех мужей и жен, и ангелов небесных к спасению. Даже демонов из преисподней я искупила бы, и все это предложила бы Богу в дар за одну-единственную жизнь.
Если у вас не просто есть мозги, вы, наверное, заметили небольшое логическое несоответствие: если Универсальный Растворитель растворяет все, даже глину и камень, золото и душу, как сохранить его в бутыли? А изготовив, как не дать ему вытечь и немедленно растворить весь мир в дым?
Свиток Чертога, именуемый учеными «Quaerendo Invenietis», обнаружили двадцать лет назад в Карфагене, в стопке рукописей, спасенных от пожара в Великой Библиотеке, который устроил Аврелиан, и в этом свитке содержится ответ. На самом деле именно этот ответ придал документу достоверность в глазах ученых мужей, особенно мастеров алхимии. Ответ элегантный и нерекурсивный: он предоставлял решение проблемы бесконечного растворения и произвел на них глубокое впечатление, не в последнюю очередь потому, что тешил гордыню и тщеславие. Если в Чертоге Исиды и вправду можно проводить легендарные операции, выходит, неспособность повторить их без Чертога – не их вина, а если трудность в изготовлении Алкагеста преодолима, то и вся их дисциплина снова становится не только практической – пусть в отсутствие ключевого ингредиента, но и высочайшим достижением в военной, теологической и философской сфере, какое можно вообразить. Из побочной науки алхимия становилась центральной, даже главенствующей, и всякий двор, которому посчастливилось бы найти Чертог, сразу получил бы в свое распоряжение целое воинство ученых мужей и нескольких женщин, способных полностью использовать его невероятную силу.
В особенности обнаружение Свитка Чертога послужило взлету репутации одного старика, именуемого по латыни Iacobus Amatus [17], которого тем не менее куда чаще презирали, чем любили, и считали куда больше африканцем, чем римлянином. Прежде над ним все насмехались – за пьянство и редкие, но решительно провальные эксперименты, но даже больше – за старомодную сентиментальность, потому что он был очень добр. Он был убийственно плохим алхимиком, но искренне любил возиться в лаборатории, и только совершенно бессердечный человек смог бы заявить, что у него к этому занятию нет дарования. Честно говоря, были мастера куда хуже его. Четыре года назад он – уже в почтенном возрасте – ушел на покой, так и не узнав до сего дня, что документ, подлинность которого он подтвердил, свиток, принесший ему широкую славу, – смехотворная подделка.
Именно так. Текст, который лег в основу всего направления, скажем так, «исидологических исследований», – ложь от начала и до конца.
Целью должен был стать лысый похотливый орел Гортенс. Он бы так и скакал над свитком, приготовил бы себе постель, а я бы заставила его в нее лечь, а затем придушила подушкой. План такой, но, когда все завертелось, пути назад уже не было. Я бы ни за что не стала губить Иакова Амата. Он был другом Августина – его настоящим отцом, потому что человек, которого на эту роль назначила жизнь, оказался плох: жестокий и грубый зверь, любивший совокупление и презиравший чувства, а однажды в бане приметил непредвиденную эрекцию сына и провозгласил на весь зал, что такой член предвещает множество детей и великое будущее. Думаю – даже уверена, – что Августин тяжело пережил непристойность, так никогда и не простил отца за нее. То, что он не простил и свое тело за непрошеную реакцию на тепло и воспоминание о симпатичной служанке, я полагаю, многое объясняет в его последующей жизни и даже от части в моей.
Амат был добрым человеком. Тогда в Карфагене можно было найти столько мудрецов и ученых, что, будь они моряками, хватило бы на целый флот – впрочем, они наверняка все потонули бы. Но хоть и можно без труда найти учителя в изобразительных искусствах, литературе, риторике (прежде всего, риторике), музыке, медицине и физической науке, хоть сто миль пройди по городу, не сыщешь человека, который научил бы тебя, как стать просто достойным человеком, пока не найдешь Амата. Какое-то время он был чем-то вроде военного гения, но затем утомился от этого. Он жил, дарил свою любовь, время от времени немудро взрывал что-нибудь у себя дома, но никогда не делал ничего по-настоящему опасного, и за его экспериментами всегда стояла какая-нибудь благая увлекательная идея. Подвергнуть его осмеянию всего Карфагена было бы просто чудовищно. Да и к тому времени уже слишком много горшков с рисом разбились бы от сего откровения. Не уверена, что мне поверили бы, даже если бы я решилась открыть истину.
Нет никакого Чертога Исиды и никогда не было. Не пропадал он в царствование Ровоама, его не выкрали и не отвезли обратно по частям после смерти царицы Тарсет загадочные египетские чародеи. Его не укрыли в тайном храме жрицы Исиды, он не попал в Рим как трофей после подавления мятежа Зенобии, его не дарил царю Британии император, не ведавший, чем владеет. Его не вернули обратно в уплату долга, он не тонул в чистом зеленом море около Неополиса. Все эти истории я слышала, как и многие другие, но Чертог никогда не существовал. Имя жены Соломона, дочери фараона, утрачено в веках, и ей, возможно, с высокой башни было плевать на уважение мужа, но уж точно в ее приданом не значился магический аппарат, который останавливает время.
Я знаю. Потому что я написала Свиток. По собственным воспоминаниям и опыту я знаю, что в нем нет правды – ни скрытой, ни иносказательной. Это выдумки, взятые с потолка: когда я была пьяна и зла, через две недели не слишком старательных трудов на свет явилась подделка, которая и «нашлась» среди старых рукописей. Ее должны были разоблачить давным-давно – для этого есть полдюжины способов. Потальная фольга – не золотая; чернила не того цвета, да и выцвели недостаточно сильно. Пергамент сделан из кожи неподходящего животного. В тексте полно ошибок, потому что я едва начала изучать еврейский алфавит и язык. Краски и пигменты никуда не годятся. Весь Свиток – один сверкающий анахронизм. Ни в одном другом источнике не описывается жизнь египетской жены, нигде не упоминается и Чертог – хотя, если вам заранее сказать, что он существует, можно отыскать пару свитков и кодексов, где о нем будто бы говорится косвенно. Это, разумеется, иллюзия, ложное узнавание, порожденное поворотом колеса. Свиток – книга-призрак, врата, через которые приходят фантомы и сны. Он сам – сон, который мне не следовало записывать. Но все эти несуразности смогли объяснить. Золотую фольгу, говорят они, сняли в тяжелые времена и заменили облоем; чернила – от поздней переписи, призванной подновить рукопись; пергамент указывает на существование торгового пути, о котором мы прежде не догадывались; рука принадлежала явно молодому писцу, который, вероятно, бежал сюда от какой-то опасности, это его личное изложение истории, рассказанной наставниками; он оставил место для иллюстраций и нарисовал их позднее, когда получил доступ к иным материалам, которыми мы пользуемся и поныне; затем он вернулся к тексту и дополнил его, чтобы придать своей работе блеск предвидения. Наверняка были и другие манускрипты, содержавшие это повествование, но они погибли в пожарах.
На Свиток должен был клюнуть один слишком много себе позволявший наставник, а потом попасть как кур во щи. Вот и всё. Никто никогда не сооружал никакого Чертога Исиды, никто его не проектировал и никто о нем не думал, прежде чем я его выдумала. Разумеется, можно счесть его истинным автором Бога, но, если верить тому, чему нас учат, Он – автор всего: от запаха гибискуса до лягушачьей икры и системы налогообложения.
Нет надежды, что здесь, под этим куполом, я смогу воскресить своего сына. Не больше, чем во сне прошлой ночью. Чертог – это обман, выдумка.
Но вот он стоит посреди зала, непререкаемо реальный и прекрасный, да еще и окропленный жертвенной кровью. Чепуха, бессмыслица, которой придали форму и вес, чтобы вершить свое дело в мире. Изображение Исиды выгибается по внутренней стороне купола так, что лишь с лестницы внизу она выглядит подобающе милостивой. Я и не думала, как трудно создать такой портрет, когда описывала его. Лик богини огромен; он слишком близко, и весь облик дрожит, когда приближаешься, так что Исида будто стоит за пределами нашего мира и заглядывает внутрь, словно это мы оказались в плену двухмерной плоскости, а она пытается постичь наше ничтожество. Исида, или Мария Богоматерь, либо другая сила – куда менее благодатная: очи ее – звезды, и сама она, наверное, лишь маска, которую они надевают, чтобы мы не попрятались от ужаса.
Художник (или художница) был невероятно одарен; он усилил, развил мое описание, добавил символы и загадки в свое творение. Чего бы ты ни искал, здесь можно обнаружить отзвук своего желания, полунамеки и указания на сокровенные истины. На стенах выписаны мистические тексты – обильно, почти расточительно. Они обременены смыслами, как садовые деревья – плодами в конце лета. Вон там – Пифагор, а это – орфический трактат о переселении душ. Вон там нечто, похожее на источник, предваряющий Скрижаль Гермеса Трисмегиста, или хитроумно извращенная цитата из его работы. Здесь вырезаны слова из «Авесты», а вот – палиндром из «Сидра-раббы». Все это подлинные религиозные тексты, пользующиеся глубоким почтением и любовью среди верующих, все они вплетены в тонкий обман. Тут больше, чем я могла себе вообразить, мелких деталей, учености. Моя шутка переросла меня и стала таким образом чем-то куда более страшным. Здесь труд, старание и ученость: высший замысел – державный или теологический. Кто-то увековечивает розыгрыш, политический или личный, и на его пути оказались Сципион и отец Карась. А Карась в свою очередь выбрал меня – подозреваю, как самого сдержанного и доступного алхимика, к которому он мог бы без опаски обратиться, – чтобы я помогла ему разобраться в убийстве, совершившемся в таких тревожных и мистических обстоятельствах. Не знаю, чего он от меня ждет. Если только он или кто-то другой не знает, что в мире нет лучшего эксперта по Чертогу, чем я. Может, его подтолкнули к выбору? Совпадение толкнуло сюда и меня, породившую ложь, на которой держится весь этот заговор, или чья-то воля? Знает ли тот, кто стоит за всем этим, что нет никакого Чертога, или в этом смысл: вывести на свет истинное святилище богини, выставив напоказ ложное? Это достаточно великая цель, чтобы оправдать подделку такого масштаба. Иначе парадокс: какая иная выгода могла бы оправдать затраты по созданию Чертога? Одни материалы обошлись в баснословную сумму. А если до такого дошла личная месть, ошибка в оценке рисков и выигрышей вдвойне безумна. Смерть Сципиона, друга Восточного императора Флавия Аркадия, приведет к такому опустошению, которое не перекроют любые вообразимые прибыли. Цицерон сказал в другом месте: «Лишь император смог бы создать подобную вещь, но невозможно себе представить, чтобы император ее пожелал». Один из богов, возможно, и поднял бы так ставки – или один из титанов.
Холодное дуновение пробегает по шее и рукам, касается кожи, так что встают дыбом волоски.
Я смотрю на великолепную огромную конструкцию, сотворенную по образу и подобию моей глупой пьяной выдумки, и мне приходится проглотить свой страх. Четыре кардинальные души изображены на стенах Чертога в идеальном равновесии. На западе пленница, привязанная к каменному столу нитями паутины, а над нею нависает потусторонний тюремщик, тело которого соткано из одних глаз. Несчастная то ли жаждет укрыться от его взора, то ли стремится привлечь его. И кого из них избрать другом? Может, они так же нераздельны, как Прометей и его орел.
На севере выписан сатир, окруженный золотыми монетами, каждая из которых врезана в деревянную стену Чертога и выложена чистым золотом, так что на него даже смотреть больно, а стена уходит назад и тонет в бесконечном мраке. Он стоит на изумрудном камне, покрытом резными нимфами и геометрическими узорами; внизу раскинулся океан тени.
На юге стоит аксумитский святой, которого греки назвали бы αἰθίοπος – впрочем, они бы и меня так назвали. Он идет по горящему городу, на плечах у него восседают мальчик и девочка. За поясом – кисть художника. Если бы я и доверяла кому-то из них, то ему, хотя что-то в его поджатых губах просит меня не делать этого. У него такое тяжкое бремя. Я думаю, что творец Чертога изобразил здесь себя. Живописцы частенько так поступают, взыскуя бессмертия.
А потом мы видим восточную роспись, а на ней – меня.
На портрете я младше и одета как царица – ох, проклятье, кажется, я должна изображать Тарсет, – и я стою в остром противостоянии с неким духом, которого художник соткал из множества мазков, будто он возникает из фона. Каждый отдельный мазок едва заметен, лишь легкая дрожь краски, но вместе они складываются в скорченную тень с длинными птичьими ногами; она тянется ко мне, чтобы схватить, но отшатывается от моего касания. Демон из моего сна. Взглянув на другую сторону Чертога, я вижу – этот пир был бы не полон без еще одного блюда – отражение этого образа в первом. Восток и запад различны, но расположение фигур – то же. Одно отражается в другом или проистекает из другого. При обычном течении времени запад следует за востоком. Солнце восходит и заходит в согласии с этой естественной последовательностью. Но в Чертоге Исиды, как было сказано, время можно обратить вспять, а истину вывернуть наизнанку.
Сказано мною.
Так что же? Я вырвусь из ужасного плена пауков и тысяч очей, чтобы обрести власть? Или к этому столу меня ведет рок?
Быть может, я слишком стремлюсь во всем видеть катастрофу. Лики снов изменчивы, а память о них – еще больше. Сколько деталей из вчерашнего сна я вообразила только что, увидев изображение? Вероятно, это лишь совпадение, и мое лицо просто выбрали из толпы, потому что у Тарсет должно быть какое-то лицо, и мое подойдет. Может, только мой страх придает росписи привычные черты? Или он возбуждает во мне стремление отрицать очевидное?
Я заставляю себя посмотреть на него вновь, внимательно.
Вот.
Нет.
Да.
Вот.
Сомнений нет.
Во мне разгорается ярость – острая и горячая. Художник потрудился над росписью, сделал ее совершенной. Демон сжимает в лапах младенца Адеодата, и кожа его уже рассечена полосками, разрывающими душу на пять частей. Не может быть, чтобы эта история говорила обо мне. Нет у меня таких врагов – столь могучих, влиятельных и богатых. Если бы были, просто прихлопнули бы меня как муху и пошли бы дальше. Если, конечно, этот враг просто не видит разницы между таким излишеством и простым ударом ножа в живот. Быть может, мне выпала великая судьба, и это оскорбляет какое-то божество, потому оно решило разобраться со мной заранее? Но опять: ради чего? Что может стоить такого размаха?
Я вновь поворачиваюсь, и ярость уходит, сменяясь горечью и природной печалью, какую испытывает один человек из-за другого, пусть и неизвестного. Последний элемент плана – или, будь он проклят, его начало? – лежит на полу.
Тело Корнелия Севера Сципиона занимает почти всю серебристую площадку в центре Чертога; его глаза невидящим взором впились в лик богини. Сципион-герой, деревенский мальчишка из побочной ветви знатного рода, который стал несравненным воином: чемпионом легиона с мечом, копьем, кинжалом, да и с любым иным оружием, какое ни назови. В народе говорили, мол, истинный его отец, наверное, Марс или архангел Михаил в воинственном облачении. Говорили, что он сражался так, будто поднимал военное ремесло на новый, высший уровень. Говорят, он в строю бился с визиготами, пока не сдержал их натиск, а потом бросил им вызов, потребовав найти воина, который выстоит против него в поединке. И когда ни один из бойцов не выстоял, все их войско – в пять или даже десять раз больше нашего – просто вернулось в леса. В народе всегда много говорят о человеке, который оказался двоюродным братом Папы и закадычным приятелем Восточного императора. Много, но не настолько, так что он и вправду был особенным.
Он еще молод и красив. Даже в безволии смерти его лицо прекрасно и намекает на острый ум.
Что ж, будь Чертог настоящим, Сципиона мог бы вернуть к жизни какой-нибудь святой алхимик, который бы хорошо понимал правила ритуала и практику глубокой религиозной магии. Здесь, в Чертоге, такой волхв мог бы сотворить чудеса, от которых бы весь мир вздрогнул, или просто воскресить одного человека из мертвых, по милости Божией. Или, может быть, двух, если вымолить такой дар. Почему нет? Какую бы цену я не согласилась заплатить за это? Если бы Чертог был настоящим. Но я стою в нем, посреди него. Мой облик запечатлен здесь, он наполнен мною, обрел плоть через меня или благодаря мне. Возможно, он настоящий: возможно, меня в пьяном угаре посетил ангел, и эта чудовищная издевка способна обернуться истинно святой реликвией, будь у меня хоть немного веры. Но даже если так, где в нынешнем Карфагене найти такого человека? Обладателя глубокого знания, веры и отваги? Я оглядываюсь, словно надеясь обнаружить в зале спрятавшегося святого недоумка, но все они смотрят на меня. Неуместное, абсурдное выражение на лицах – что это? Надежда? На что они надеются в таком месте? В таком месте.
Ох.
Ох, черт.
Я снова окидываю взглядом обман, именуемый Чертогом Исиды, а затем смотрю на мертвеца. Впервые смотрю прямо на него, впитываю абрис его смерти и чувствую, как в живот мне приходит последний удар.
Под одеждой Корнелий Север Сципион рассечен на пять частей.
* * *
Сын всегда повторял: «Мама все исправит», а я не исправила. Не успела, просто не смогла бы туда попасть, и мир оказался больше, чем мне было под силу удержать на плечах. Моих сил не хватило. Он верил в меня, а я его подвела. Где-то должна быть дверь между реальным миром и божественным, и, если она существует, найти ее можно лишь в отчаянии и любви. Оно знакомо всем нам, это чувство вечности: будто не хватает руки, невидимой и неотвратимой, той, что отвечает на потребность души. Сердце может двигать горы, а Бог отвечает на молитвы. Я не справилась, потому что не смогла распахнуть свою грудь настолько широко, чтобы творить чудеса.
Когда Адеодат умер, Августин прислал его домой, ко мне, в гробу, заполненном медом, чтобы я похоронила его или сожгла – по своему усмотрению – в стране, где он родился. Написал, что сам приедет позже и будет присутствовать, если я позволю. Я не стала ждать, пока он управится со своими бесконечными епископскими обязанностями, которые в данном случае задержали его на несколько месяцев, так что я не смогла даже лишить его прощания. Я помню, как открыла крышку, стерла мед с его кожи и говорила, и рыдала, а затем вновь уложила его в гроб. Истинная христианка предала бы его земле, но я не хотела, чтобы он гнил. Я помню, что мед пах розмарином с легчайшим привкусом сырого мяса и мочи.
Не было ничего жестокого в том, чтобы так его упаковать, и стоило это наверняка целое состояние. Душа меда столь суха, что тело, погруженное в него, не знает тления. Адеодат лежал, точно святой: кожа чистая, а сильное тело по-прежнему округлое и гибкое. Глаза его были закрыты; думаю, Августин приказал их запечатать. Глаза жестоки. Смерть приходит в них так быстро, когда мутнеют гуморы, а я бы сошла с ума, увидев разложение на этом лице. Наверное, это было последнее проявление доброты ко мне со стороны отца Адеодата, похороны нашей с ним любви, а не только нашего сына. Возможно, это был правильный выбор. Не могу себе представить, как бы он стоял среди нас в своих дорогих одеждах, даруя по своему призванию любовь и прощение тем, кто ждет их от него очень лично, не от души или разума, а от костей. Ни Христос, ни Моника не отняли у нас Августина, но лишь он сам, это сам Августин преследует себя картинами ада; Августин, который по ночам карает так себя за грехи; Августин, который просит его отвратить лицо свое. Августин, который не может положиться на милосердие Бога, о чьем милосердии он столь велеречиво говорит и на животе ползет к отпущению грехов, хотя ничего дурного не сделал, кроме того, что считал своим святым долгом. Августин, душа которого становилась все больше похожей на мед, стала голодной и сухой, и Августин, сердце которого навеки сохранено мертвым в сладости, не приносящей облегчения.
Мой сын умер от лихорадки. Она поразила его ночью где-то между Миланом и Гиппоном Царским, и к утру его не стало. «Бог призвал его домой», – написал мне Августин, но я не понимаю, что это значит. Что все мы, оставшиеся в живых, меньше любимы? Или это одна из тех христианских загадок, которым учат священники, а старые женщины, которые ясно видят суть, не понимают: мол, любовь Бога к нам всем равна, но в то же время столь велика к Адеодату, что Царь Царей призвал его к себе, прежде чем я успела вновь его обнять? Августин говорит, что это – пример моего себялюбия. Возможно, так и есть. Но если я себялюбива, каков же Бог, везде и во всем вечный; Он не смог еще месяц подождать моего сына? Он, Бог, во мне, и мои руки могли обнять моего мальчика, и уж это точно было бы так, словно Бог призвал его домой. Есть ли вообще слово, которым можно обозначить такую степень себялюбия, где оно становится эликсиром, который весь мир должен испить и назвать любовью?
И вот здесь лежит бедный, глупый, красивый Сципион, и в глазах у него уже белые и черные цветы, и я чувствую тот же проклятый запах мяса. Это предопределение? Поэтому у меня отняли Адеодата? Чтобы здесь в этот миг я приняла то решение, которое принимаю? Это и есть неисповедимые пути, о которых нам говорят, что я должна отдать должное Сципиону благодаря недолжной божественной несправедливости, которую никогда не смогу исправить? Потому я увидела Августина в мастерской, где стояла обнаженной натурой для скульптора, который надеялся на более тесное знакомство, и улыбнулась ему, и захотела его так остро, потому что еще до рождения была создана так, чтобы желать его, и чтобы плод нашей страсти и его жестокости ко мне умер, дабы привести таким образом через безжалостную математику любви к этому выбору? Это и есть свобода воли? Право оказаться вынужденной совершать моральный выбор ради Бога, который мог бы сделать весь мир раем, если бы высказал свое желание?
Говорят, Бог милосерд, и Его милосердие кажется нам мукой, ибо мы извращены грехом. Я знаю все аргументы, они – один бессмысленнее другого. Мир таков, каким мы его делаем. Этот Сципион не похож на моего сына ничем, кроме того, что все мертвые дети кажутся похожими в глазах родителей. Он бледный, северных кровей. Менее африканских. И он умер совершенно неестественной смертью. Почти нет ни крови, ни других телесных жидкостей, что являются после смерти. Самая чистая смерть, какую я видела и о какой слышала, а должна быть одной из самых грязных. Стерильна как мед.
Хватит. Я разберусь. Сципион – не Адеодат, да что там – чуть-чуть подкрутить колесо времени, и он мог бы оказаться моим любовником и даже отцом моего сына, потому что учился здесь немного позже меня. И это не мой сон, пророческий или нет. Это проблема, и если они связаны, что ж: большего блага я достигну, разрешив меньшую.
Сципион – не Адеодат, и я ему ничего не должна.
Но душа моего сына разорвана на пять частей, как этот труп у моих ног, а говорят, убийца иногда совершает свое дело не ради серебра, а чтобы выписать то, что записано в нем самом.
Что же записано здесь дважды? И кому адресовано это послание, если не мне?
Я не знаю. Но я найду тебя, изготовитель этой подделки. Хитрец, обманщик. Я тебя найду и такое с тобой сделаю, что мужчины много веков будут шепотом об этом друг другу рассказывать. Ты будешь умолять, чтобы демоны разорвали твою плоть. Я тебя найду.
Я опускаюсь на колени в этом ужасном храме и начинаю осматривать мертвое тело.
* * *
Полезно иметь историю, когда приходится касаться мертвых и трогать сломанный механизм в его зловонии.
(Хотя здесь зловония почти нет, от этого не лучше, потому что вокруг трупа разлита соленая, будто морская, вода; откуда она взялась и почему?)



