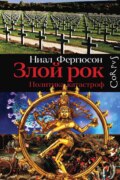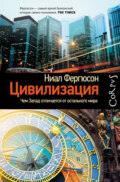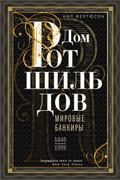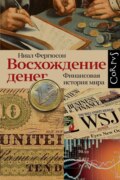Ниал (Нил) Фергюсон
Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook
Глава 16
Когда Гутенберг встретился с Лютером
Иберийская сеть первооткрывателей и завоевателей была одной из двух сетей, коренным образом изменивших мир на заре Нового времени. В ту же самую пору в Центральной Европе появление новой технологии помогло разжечь масштабную религиозную и политическую смуту, известную сегодня под названием Реформации, а заодно и вымостить путь революции в науке, Просвещению и многим другим событиям, которые являли собой полную противоположность первоначальным целям и сути Реформации. Печатное дело существовало в Китае задолго до XV века, но ни одному китайскому печатнику никогда не удалось бы добиться того, что совершил Иоганн Гутенберг, – а именно создать совершенно новую отрасль экономики. Первый печатный станок Гутенберга заработал в Майнце приблизительно между 1446 и 1450 годами. Новую технологию печати – тиснение при помощи подвижных литер – быстро подхватили другие немецкие мастера, она начала концентрическими кругами распространяться вокруг Майнца: экономически выгоднее было создать множество типографий в разных городах, чем налаживать централизованное производство, так как транспортировка печатной продукции обходилась бы слишком дорого. К 1467 году Ульрих Хан уже основал первую книгопечатню в Риме. Шестью годами позже Генрих Ботель и Георг фон Гольц открыли типографию в Барселоне. В 1475 году Ганс Вурстер наладил книгопечатание в Модене. Около 1496 года Ганс Пегницер и Мейнард Унгат основали типографию в Гранаде – всего через четыре года после того, как эмир Мухаммед XII, последний правитель из династии Насридов, сдал Альгамбру Фердинанду и Изабелле. К 1500 году примерно в каждом пятом из швейцарских, датских, голландских и германских городов уже имелись собственные типографии[300]. Англия поначалу отставала, но потом догнала остальные страны. В 1495 году в Англии были напечатаны книги лишь восемнадцати наименований. К 1545 году там имелось уже пятнадцать типографий, а количество наименований, выходивших из печати ежегодно, выросло до ста девятнадцати. В 1695 году около семидесяти типографий напечатали книги 2092 наименований.
Не будь Гутенберга, Лютера вполне могла бы постичь судьба очередного еретика, которого Церковь сожгла бы на костре, как Яна Гуса[301]. Его исходные “95 тезисов”, осуждавшие прежде всего порочные методы Церкви вроде торговли индульгенциями, вначале были отосланы архиепископу Майнцскому в письме от 31 октября 1517 года. Возможно, Лютер еще прибил текст “Тезисов” к двери церкви Всех Святых (это до конца не прояснено), но это даже неважно. Такой способ обнародования уже успел устареть. В считаные месяцы оригинальный латинский текст его “Тезисов” растиражировали типографии в Базеле, Лейпциге и Нюрнберге. К тому времени, когда Вормсским эдиктом 1521 года Лютер был официально признан еретиком, его сочинениями зачитывались уже во всех концах Европы, где понимали немецкую речь. Заручившись помощью художника Лукаса Кранаха и ювелира Кристиана Дёринга, Лютер совершил революцию не только в западном христианстве, но и собственно в области коммуникаций. В XVI веке немецкие печатники выпустили в свет почти пять тысяч изданий сочинений Лютера, к которым можно приплюсовать еще три тысячи, если учесть другие работы, к которым он тоже приложил руку, – например, немецкую Библию Лютера. Из 4790 публикаций почти 80 % вышли на немецком языке, а не на латыни – международном языке клерикальной элиты[302]. Печатное дело сыграло решающую роль в успехе Реформации. В городах, где к 1500 году имелись свои типографии, протестантизм встречал поддержку с гораздо большей долей вероятности, чем в городах без своего книгопечатания, но легче всего протестантизм пускал корни в тех городах, где имелось несколько конкурировавших между собой типографий[303].
Появление печатного станка справедливо называли бесспорной точкой невозврата в человеческой истории[304]. Реформация вызвала волну религиозных восстаний против власти Римско-католической церкви. Перекинувшись от реформаторски настроенного духовенства и ученых на высшие городские слои, а затем и на неграмотное крестьянство, этот бунт вверг в смуту вначале Германию, а затем и всю Северо-Западную Европу. В 1524 году разразилась настоящая крестьянская война. К 1531 году в протестантство обратилось уже столько европейских правителей, что они сплотились в Шмалькальденский союз против императора Священной Римской империи Карла V. Даже потерпев поражение, протестанты оказались достаточно могущественными, чтобы уберечь Реформацию в разрозненных мелких княжествах, а после заключения Аугсбургского мира (1555) утвердить главный конфессиональный принцип – cuius regio, eius religio[305] (придуманный в 1582 году немецким правоведом Иоахимом Штефани), который фактически предоставлял монархам и князьям самим определять, какую веру следует исповедовать их подданным – лютеранство или католичество. Впрочем, религиозные волнения продолжали медленно закипать, а со временем выплеснулись в Тридцатилетнюю войну – конфликт, превративший Центральную Европу в огромную бойню.
Лишь после долгой и кровопролитной войны европейским монархиям удалось снова обуздать новые протестантские секты, однако установленный ими контроль уже никогда не достигал такой полноты, какой обладала папская власть. Цензура сохранилась, но в ней появились лазейки, и даже самые отъявленные еретики могли найти печатника, который согласился бы издать их сочинения. А на северо-западе Европы – в Англии, Шотландии и в Республике Соединенных Провинций Нидерландов – оказалось совсем невозможно восстановить католицизм, хотя Рим в придачу к своему традиционному набору зверских пыток и наказаний, в которых Церковь усердствовала уже давно, бросил на борьбу с Реформацией ее же собственные технологии и сетевые стратегии самой Реформации.
Почему же протестантизм так стойко сносил репрессии? Одно из объяснений состоит в том, что протестантские секты, распространяясь по Северной Европе, создали на редкость прочные и гибкие сетевые структуры. В царствование Марии I Тюдор протестанты в Англии подверглись жестоким преследованиям. Об этой травле и судах над гонимыми реформаторами подробно написал Джон Фокс в труде “Деяния и памятники” (более известном как “Книга мучеников”). Однако хорошо видно, что те 377 убежденных протестантов, которые или сами переписывались с Фоксом, или упоминались в письмах Фокса и связанных с ними источниках, составляли крепкую сеть, имевшую несколько ключевых узлов связи: ими служили мученики Джон Брэдфорд, Джон Беспечный, Николас Ридли и Джон Филпот[306]. Казни, обрубившие целых четырнадцать узлов из двадцати (обладавших наибольшей центральностью по посредничеству[307]), конечно, понизили связанность между оставшимися в живых, но не уничтожили саму сеть, потому что место прежних связующих вершин заняли другие фигуры, наделенные высокой центральностью по посредничеству – в том числе курьеры, передававшие письма, и жертвователи вроде Огастина Бернера и Уильяма Панта[308]. Тщетные попытки старшей дочери Генриха VIII отменить религиозную революцию, которую опрометчиво затеял ее родной отец, чтобы развестись с ее матерью, как нельзя лучше символизировали кризис иерархического порядка в XVI веке.

Илл. 12. Сеть английских протестантов непосредственно до (слева) и после (справа) казни Джона Брэдфорда 1 июля 1555 года. Гибель Брэдфорда (он обозначен крупным черным узлом слева и серым справа) отрезала от остальных участников целую подсеть, сосредоточенную вокруг его матери (узлы с белой пустотой внутри на правой схеме).
Прошло уже полтысячелетия с тех пор, как португальские корабли подошли к побережью Гуандуна, а Лютер прибил свои тезисы к двери церкви Всех Святых в Виттенберге. Мир в 1517 году, когда в Европе только начинались большие сдвиги – географические открытия и Реформация, – все еще оставался миром иерархических порядков. Китайский император Чжэндэ и правитель инков Уайна Капак были всего лишь двумя представителями многочисленной элиты мировых деспотов. Как раз в 1517 году султан Османской Турции Селим I (Селим Грозный) покорил Мамлюкский султанат, охватывавший часть Аравийского полуострова, Сирии, Палестины и даже Египта. На востоке шах Исмаил из династии Сефевидов простирал свою власть над всеми землями сегодняшних Ирана и Азербайджана, Южного Дагестана, Армении, Хорасана, Восточной Анатолии и Месопотамии. На севере Карл I – наследник династий Габсбургов, Бургундских Валуа и Трастамара – правил испанскими королевствами Арагоном и Кастилией, а также Нидерландами; через два года, уже под именем Карла V, он сделался еще и императором Священной Римской империи, унаследовав трон своего деда Максимилиана I. В Риме на папском престоле сидел Лев Х – второй сын Лоренцо Медичи (Великолепного). Во Франции царствовал Франциск I, а в Англии столь же абсолютной властью обладал король Генрих VIII: по его личной прихоти все королевство перешло в лютеранство (пускай даже по частям и непоследовательно). Как мы уже видели, иерархия – это особая разновидность сети, в которой предельно повышена центральность правящего узла. Отличной иллюстрацией этому утверждению служит социальная сеть, о существовании которой можно заключить из государственных бумаг Тюдоров, куда вошли письма от более чем двадцати тысяч человек. В годы правления Генриха VIII человеком с наибольшим количеством связей являлся Томас Кромвель (первый советник короля, лорд-хранитель Печати и канцлер казначейства), переписывавшийся с 2149 корреспондентами, второе место принадлежало самому королю (1134), а третье занимал кардинал Уолси, лорд-канцлер (682). Однако с точки зрения центральности по посредничеству первое место оставалось за королем[309].
Поразительная черта тогдашнего иерархического мира – это сходство, наблюдавшееся в осуществлении власти во всех этих империях и королевствах, невзирая на то что связи между европейским миром и остальными землями были весьма скудными, если существовали вообще. (За пределами Европы, где между монархами постоянно происходили войны и турниры династической дипломатии, не было сетей, которые объединяли бы остальных деспотов.) Селим Грозный прославился своей жестокостью к великим визирям: он казнил их в таких количествах, что выражение “чтоб тебе стать визирем у Селима” стало расхожим турецким проклятьем. Генрих VIII запомнился истории тем, что обходился со своими министрами и женами не менее бессердечно. Великий князь Московский Василий III тоже без лишних раздумий приговаривал к смертной казни строптивых бояр, а еще он, подобно Генриху, развелся с первой женой, которая так и не родила ему наследника. В Восточной Африке негус Эфиопии Давид II вел с мусульманским султанатом Адаль войну, которая чем‐то походила на вражду между христианскими и мусульманскими правителями, долгое время бушевавшую в разных странах Средиземноморья. Сегодня историки признают, что в 1517 году в мире существовало более тридцати империй, королевств, княжеств и великих герцогств, имевших достаточную площадь и сплоченность, чтобы претендовать на самостоятельную государственность. Во всех них – и даже в единственной республике, Венеции, – власть сосредоточивалась в руках одного человека, как правило мужчины (в тот год в мире имелась лишь одна правительница – королева Хуана Кастильская). Некоторые властители наследовали трон по праву рождения. Других избирали (хотя нигде избрание не происходило демократическим способом). Некоторые – как, например, Чунджон, ван Чосона (Корея), – восходили на трон насильственным путем. Были и юные короли (Якову V Шотландскому в 1517 году было всего пять лет), и старые (Сигизмунд I, король Польши и великий князь Литовский, прожил 81 год). Некоторые номинальные правители в действительности были слабыми – как император Го-Касивабара в Японии, где реальная власть находилась в руках сёгуна Асикага Ёсиаки. Относительная власть более мелких землевладельцев различалась от места к месту. В некоторых государствах, как в королевстве Рюкю при Сё Сине, царил мир. Другие – особенно Шотландию – постоянно раздирали распри. Однако большинство монархов раннего Нового времени наслаждались неограниченной личной властью (в том числе и властью над жизнью и смертью своих подданных) такого рода, какая сегодня существует лишь в нескольких государствах Центральной и Восточной Азии. Несмотря на расстояния во много тысяч миль, разделявшие эти страны, преуспевающие самодержцы вроде Кришнадеварайи, императора Виджаянагара (самого могущественного правителя в Индии в начале XVI века), вели себя поразительно похоже на своих современников, живших в ренессансной Европе: они тоже гордились собственной воинской отвагой и умением править государством, тоже оказывали покровительство искусствам и литературе.
С начала 1500‐х годов этот иерархический мир подвергся двойному нападению со стороны революционных сетей. “Первооткрыватели” и “завоеватели” из Западной Европы, искавшие новых возможностей для торговли и вооружившиеся новыми навигационными технологиями, отплывали к другим континентам, причем число таких смельчаков неуклонно росло. Во многом с помощью инфекционных болезней они свергли прежних правителей в обеих Америках и создали всемирную сеть укрепленных перевалочных пунктов, и те начали медленно подтачивать суверенитет азиатских и африканских государств. В ту же пору религиозный вирус, позднее получивший название протестантизма, распространяясь благодаря проповедям и печатному станку, подорвал церковную иерархию, истоки которой восходили к святому Петру. Последствия Реформации сказались вначале в Европе, и они были поистине ужасны[310].
Религиозные войны с 1524 по 1648 год сеяли сумятицу и вражду между отдельными государствами и одновременно разрушали их изнутри. Как только власть папского Рима была успешно подорвана, в Северной Европе началась эпидемия религиозных новшеств: лютеранам вскоре бросили вызов кальвинисты и цвинглиане, которые отвергали утверждение Лютера о том, что в обряде святого причастия освященные хлеб и вино являются истинным телом и кровью Христовыми. В отличие от прежних расколов внутри христианства (арианского спора в IV веке, Великой схизмы между западным и восточным христианством в 1054 году и “двоепапства” с 1378 по 1417 год), реформатские движения постоянно разрастались: можно сказать, что главной чертой новых сект была способность размножаться делением. Крайний случай являли собой анабаптисты, считавшие, что крещение должно быть сознательным и добровольным обрядом, а потому детей крестить бессмысленно. В феврале 1534 года группа анабаптистов во главе с Яном Матисом и Яном Бейкелсзоном (Иоанном Лейденским) захватила власть в вестфальском городе Мюнстере и основали там коммуну, которую сегодня мы могли бы назвать христианским государством. Это был жестко эгалитарный, иконоборческий теократический режим, опиравшийся на буквальное толкование Библии. Анабаптисты сожгли все книги, кроме Библии, провозгласили создание “Нового Иерусалима”, узаконили многоженство и принялись готовиться к войне против неверующих в преддверии Второго пришествия Христа. К середине XVII века, в период Английской республики, протестанты-диссентеры, отвергавшие англиканский “средний путь” между лютеранством и католичеством, образовали множество соперничавших между собой сект. Среди них особенно выделялись Люди Пятого царства (чье название восходит к пророчеству из Книги Даниила о том, что на смену четырем старым царствам придет пятое – царство Божие), магглтониане (названные в честь Лодовика Магглтона, одного из двух лондонских портных, которые объявили себя последними пророками, чье появление предсказано в Апокалипсисе), квакеры (“трепещущие при имени Господа”) и рантеры (“болтуны” – названные так за шумное и, по слухам, гедонистическое отправление обрядов).
Была ли Реформация катастрофой? К 1648 году, то есть ко времени заключения Вестфальского мира (см. вкл. № 9)[311], она, безусловно, была повинна в насильственной и зачастую чудовищно жестокой смерти поразительного множества людей. На Британских островах она в конце концов привела к политической революции. Началась она, согласно одному новаторскому толкованию, в результате махинаций графа Бедфорда и пуританина (то есть непоколебимого протестанта) графа Уорика, стремившихся, каждый на свой лад, ограничить власть короля Карла I – и по религиозным, и по политическим соображениям. Эта аристократическая “хунта” не столько помышляла о религиозной революции, сколько желала приблизить положение английского короля к положению венецианского дожа, подчинив его своему олигархическому правлению[312]. После 1642 года трения между “двором” и “страной” – и между Англией, Шотландией и Ирландией – вылились в Гражданскую войну, и король потерпел в ней сокрушительное поражение. 30 января 1649 года его обезглавили, и Англия была провозглашена республикой (Commonwealth). Как справедливо предсказывала политическая теория, это “содружество” продержалось недолго: в 1653 году “армия нового образца” распустила парламент, так называемое Охвостье, и назначила лордом-протектором Англии Оливера Кромвеля. Однако и эта должность просуществовала недолго: в мае 1660 года, всего через два года после смерти Кромвеля, новый парламент объявил, что Карл II в действительности являлся королем с самого дня казни его отца. В Гражданской войне лишились жизни, вероятно, около ста тысяч жителей Англии и Уэльса. Еще больше людей погибло в Шотландии, а в Ирландии людские потери были самыми тяжелыми. Их можно сравнить с количеством жертв Великого голода 1840‐х годов и с потерями Германии в Тридцатилетней войне.
Войны и гонения, вызванные волной Реформации, конечно же, совсем не входили в намерения Лютера. С позиции католиков, чье движение Контрреформации оградило от протестантизма хотя бы Южную Европу (и заморские империи Испании и Португалии), мораль была кристально ясна: вызов, брошенный папской и епископской иерархии сетью, которая называла себя “духовенством всех верующих”, в кратчайшие сроки привел к кровавой анархии. Британские же аристократы извлекли другой урок. После свержения Якова II, тщетно пытавшегося восстановить в стране католицизм, они сделали выводы, что полномочия монарха всегда должен ограничивать парламент, где их собственное влияние будет осуществляться посредством сетей попечительства[313], и что религиозное рвение должна всемерно сдерживать англиканская церковь, сама придерживавшаяся via media – среднего пути между пуританством и папством. В обеих позициях было много здравого. И все же от них ускользнули очень важные и столь же неумышленные преимущества того разрушения, который спровоцировал Лютер.
Часть III
Письма и ложи
Глава 17
Экономические последствия Реформации
Поражение, которое в конце концов потерпела Контрреформация, тщетно пытавшаяся задушить “кальвинистский Интернационал”[314], повлекло за собой долгосрочные экономические и культурные последствия. До Реформации состояние экономики в Северо-Западной Европе относительно мало отличалось от экономического положения, скажем, в Китайской или Османской империях. Зато после революции Лютера в экономике протестантских стран начали проступать признаки большего динамизма. Почему же? Отчасти потому, что, несмотря на желание Лютера очистить Церковь, Реформация привела к масштабному перераспределению ресурсов и смещению интересов от религиозной деятельности к светской. На протестантских территориях Германии две трети имевшихся монастырей были закрыты, их земли и другую собственность по большей части присвоили светские правители, чтобы затем продать своим богатым подданным. То же самое случилось и в Англии. Все большее количество университетских студентов отбрасывали мысли о монашестве и выбирали мирские занятия. Церквей строили все меньше, а светских зданий – все больше. Как уже справедливо отмечалось, Реформация возымела совершенно непредвиденные последствия в том смысле, что оказалась на поверку “религиозным движением, способствовавшим обмирщению Европы”[315].
В то же время революция в печатном деле, которая и сделала возможной Реформацию, возымела собственные непредвиденные последствия. За период между 1450 и 1500 годами цены на книги снизились на две трети – и с тех пор продолжали падать дальше. В 1383 году книга стоила столько, сколько полагалось переписчику за 208 дней работы, необходимых для создания единственного требника (богослужебной книги) для епископа Вестминстерского. В 1640‐х годах благодаря печатному станку в Англии ежегодно продавалось более трехсот тысяч популярных сборников, каждый из которых имел около 45–50 страниц и стоил всего два пенса; для сравнения: в ту пору дневной заработок неквалифицированного рабочего составлял 11,5 пенса. С конца XV до конца XVI века реальные цены на книги в Англии упали в среднем на 90 %[316]. И это был не просто книжный бум. Между 1500 и 1600 годами те крупные города, где в конце XV века появились собственные типографии, росли по меньшей мере на 20 % (а некоторые, возможно, и на все 80 %) быстрее, чем похожие города, которые не восприняли это новшество так же рано. Между 1500 и 1600 годами процесс урбанизации на 18–80 % объяснялся распространением книгопечатания[317]. Дж. Диттмар даже утверждает, что “воздействие печатной книги на уровень жизни людей можно приравнять к 4 % дохода в 1540‐х годах и к 10 % дохода к середине XVIII века”, что значительно больше, чем аналогичное воздействие персонального компьютера в нашу эпоху, которое оценивается всего в 3 % дохода на 2004 год[318]. Снижение цен на ПК в период между 1977 и 2004 годами можно представить себе в виде траектории, весьма сходной с той, которая отображает падение цен на книги с 1490 по 1630 год. Однако более ранняя и более медленная революция в информационной технологии, по‐видимому, оказала гораздо более важное воздействие на тогдашнюю экономику. Это различие лучше всего объясняется огромной ролью, какую сыграло книгопечатание в распространении прежде недоступных знаний, необходимых для возникновения экономики современного типа. Первым известным математическим текстом, воспроизведенным печатным способом, стала так называемая Тревизская арифметика(1478). В 1494 году в Венеции вышло сочинение Луки Пачоли Summa de arithmetica, geometria, proportione e proportionalità[319], где восхвалялась система двойной записи в бухгалтерском учете. Вскоре стали выпускаться пособия по различным производственным технологиям – вроде пивоварения и стеклодувного дела. Книги такого рода способствовали быстрому распространению соответствующих ремесел.
Но это еще не все. До Реформации культурная жизнь Европы в значительной мере сосредоточивалась вокруг Рима. После Лютеровой революции сеть европейской культуры преобразилась до неузнаваемости. Опираясь на данные о местах рождения и кончины европейских мыслителей, можно проследить за появлением двух частично перекрывающих друг друга сетей: одна была устроена по принципу “победителю достается все”, и в ней ярко выражена концентрация вокруг Парижа, а вторая существовала по принципу “достойные обогащаются”, и внутри нее множество центров поменьше состязались между собой, группируясь в небольшие кластеры по всей Центральной Европе и Северной Италии[320]. После 1500 года уже не все дороги вели в Рим (см. вкл. № 10).