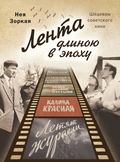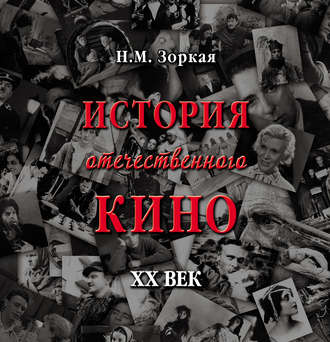
Нея Зоркая
История отечественного кино. XX век
Гений
Это величайшая фигура всей истории мирового кино и мировой культуры в целом. Со дня его безвременной смерти прошло уже несколько десятилетий, но свершенное им по-прежнему поражает новизной актуального первооткрытия и остается недосягаемой вершиной искусства.

Сергей Эйзенштейн
Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948) был наделен множеством талантов, уникальной памятью, редкостной образованностью. Все, с чем соприкасался и чем увлекался, он изучал досконально и с поразительной быстротой. Психологи утверждают, что его изыскания в области психологии творчества и механизмов восприятия открыли в науке новые пути. Его считают одним из пионеров семиотики. Кинематографисты-педагоги опираются на опыт Эйзенштейна – руководителя мастерской во ВГИКе и других экспериментальных кинолабораториях. Его теоретические работы Монтаж аттракционов, Вертикальный монтаж, Неравнодушная природа и другие являют собой фундамент кинотеории и эстетики.
Эйзенштейн Сергей Михайлович
(1898–1948)
1924 – «Стачка»
1925 – «Броненосец „Потемкин“»
1927 – «Октябрь»
1929 – «Старое и новое»
1931/1979 – «Да здравствует Мексика!» (выпуск на экран в монтаже Г. В. Александрова)
1936 – «Бежин луг»
1938 – «Александр Невский»
1945–1958 – «Иван Грозный»
Его фильм Броненосец «Потемкин» (1925), согласно данным статистики, имеет максимальное количество призов, дипломов, наград и стойко держит титул «фильма № 1 всех времен и народов».
А гигантские исторические фрески Александр Невский и Иван Грозный с музыкой Сергея Прокофьева? Эти могучие, истинно классические, монументальные образы русской истории: наступление рыцарского войска на снежной равнине; победоносная битва на Чудском озере – Ледовое побоище в Александре Невском; взятие Казани; «черная месса» опричнины в Иване Грозном – высочайшие творения искусства!
Как и всем людям его поколения, Сергею Эйзенштейну выпало на долю пережить две мировые войны и одну гражданскую, две революции, эпоху коллективизации, террора. До «оттепели» он не дожил.
Его кинематограф вместил в себя всю горечь современника страшных событий и всю страстную убежденность художника в конечной победе справедливости и добра. Он и сам словно бы прожил несколько жизней, работая не щадя сил и оставив потомкам наследство, для изучения которого (оно идет не прекращаясь) потребуется еще очень много лет.
К 1924 году, когда на экраны вышел первый фильм Эйзенштейна Стачка, за плечами молодого режиссера уже была богатая биография.

Стачка, фильм Сергея Эйзенштейна
Хотя по своей профессии инженера и архитектора отец семейства Михаил Осипович Эйзенштейн-старший, статский советник и почетный гражданин города Риги, принадлежал к интеллигенции, достаток, уклад, трен дома Эйзенштейнов был буржуазным: роскошный салон, журфиксы, вист по вечерам, званые обеды, челядь и все прочее. Мать происходила из богатого купеческого рода владельцев Архангельского пароходства. Наследнику же и единственному сыну суждено было пополнить племя «блудных детей» российской буржуазии, тех, которые «выламывались» из своего класса, прожигая жизнь и отцовские капиталы в пьянстве или – кто может! – уходя в искусство. В элите ранней советской художественной интеллигенции, в тройке лидеров режиссерского авангарда 1920-х годов Сергей Эйзенштейн займет место вслед за сыном пензенского водочного магната Всеволодом Мейерхольдом и наследником табачной торговли во Владикавказе Евгением Вахтанговым.
«Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое – это она сделала меня художником» – так начинается Автобиография, написанная Эйзенштейном в 1939 году.
Биографические факты складываются в довольно простую и типическую для смутных революционных лет картину: аттестат Рижского реального училища, Петроградский институт гражданских инженеров, участие в боях Красной армии, театр Пролеткульта, учеба в мастерских Всеволода Мейерхольда, преподавание разных предметов (от акробатики до эстетики), постановка нескольких новаторски-эксцентричных спектаклей.
Например, из бытовой сатирической пьесы классика XIX века А. Н. Островского На всякого мудреца довольно простоты Эйзенштейн делает современное, шокировавшее Москву политобозрение Мудрец. Но игра молодых сил и озорная эксцентриада вскоре уступают место выполнению правительственного заказа, созданию революционного кинотриптиха «по истории партии»: фильмов Стачка (1924), Броненосец «Потемкин» (1925), Октябрь (1927).
Броненосец «Потемкин». Торжественная премьера 24 декабря 1925 года в Большом театре. Напряженная тишина в зале то и дело взрывается аплодисментами. Фильм был черно-белым, но на мачте восставшего корабля в патетический момент бунта взвивался красный флаг. Его красили вручную для каждого экземпляра ленты. Это был пик восторга, это будет одна из любимых легенд историков о Броненосце «Потемкин».
Трудно поставить в вину художнику гордый финал фильма: образ победоносного корабля, который рассекает волны, как бы вплывая в темноту зрительного зала – «в бессмертие», «в вечность». Пусть восстание на «Потемкине», как и революция 1905 года в целом, было подавлено, а матросские вожаки расстреляны, но символика, эмблематика фильма законны – на то творческая воля автора.








Броненосец «Потемкин», фильм Сергея Эйзенштейна
Но в следующем фильме Эйзенштейна Октябрь, снятом им по правительственному заказу к годовщине Октябрьской революции, где документализм декларировался в качестве принципа объективной хроники 1917 года, «точка зрения очевидца», позиция летописца-наблюдателя постепенно мистифицируются и в обличье хроники предстает «политика, опрокинутая в прошлое».

Среди воспоминаний Эйзенштейна о Петрограде 1917 года находим следующее:
«…Я приводил в порядок заметки о граверах XVIII века.
И отправился спать. Где-то в городе далеко стреляли как будто больше обыкновения. У нас на Таврической было тихо. Ложась спать, я педантично вывел на заметках дату… 25 октября 1917. А вечером дата эта уже была историей».


Абсолютно по-другому будет выглядеть ночь восстания на экране Октября. Постановщик гигантской эпопеи-хроники сочинит мощную картину города, целиком охваченного революционным порывом. К большевистскому Смольному (а это совсем близко от тихой Таврической) у Эйзенштейна-режиссера стягиваются силы трудящихся, спешат грузовики с отрядами добровольцев. А на берегу Невы, в бывшей царской цитадели, Зимнем дворце, трясутся от страха перед гневом народным министры соглашательского Временного правительства. И это уже полностью отвечает советскому чертежу событий 25 октября 1917 года.
Именно Эйзенштейну принадлежит экранная версия штурма Зимнего дворца, события, вошедшего в официальную историю именно через посредство художественного образа, – любопытное смещение.
Ведь так и осталось неизвестным, штурмовали ли матросы чугунные узорные ворота перед дворцовыми подъездами, свидетельства сбивчивы и противоречивы. Но зато в школьных учебниках, в солидных исторических трудах фигурируют в качестве подлинных фотодокументов именно кадры из кинофильма Октябрь, где черные бушлаты эффектными гроздьями висят на затейливых орнаментах решеток и река восстания прорывается внутрь твердыни. Это канонизировано советской историографией как первоисточник, как документальный материал, это включается в виде подлинной съемки 1917 года (а не режиссерской реконструкции спустя десятилетие) в позднейшие художественные фильмы.




Октябрь, фильм Сергея Эйзенштейна
Фильм Октябрь явил собой как бы «чистовик» 1917 года, а постановщик оказался творцом мифа об Октябре как о великолепно подготовленном, высокоорганизованном и возглавленном большевистской партией всенародном восстании.
В XX веке границы между мифом и поэтическим вымыслом, между допуском и фальсификацией крайне зыбки. Немые фильмы Эйзенштейна, работа его постоянного оператора Эдуарда Тиссэ и сегодня покоряют пластическим совершенством. Но есть в них еще и нечто глубоко личное, нечто, страстью и темпераментом изнутри нарушающее классическую гармонию и выверенное мастерство. Это – тема страдания и гибели беззащитного.
Щемящую жалость к жертве и сопереживание вызывают образы, порожденные памятью и трагическим видением художника.
И мальчик, который пускает кораблик в луже крови (Стачка), и рядом на пороге мать в обмороке с просыпанной крупой. И там же другой мальчик под копытами казацких лошадей.
И убитая белая лошадь-красавица, поднимающаяся к небу вместе с лопастью разведенного невского моста, и руном падающие вниз к воде белокурые волосы убитой девушки – душераздирающий прекрасный лирический образ в Октябре.

Знаменитый кадр из фильма Броненосец «Потемкин»
А смертельный хаос на ступенях Одесской лестницы! Залпы карателей, вытекающий глаз старой учительницы, обезумевшая мать с мертвым сыном на протянутых руках и другая, та самая мать, которая последним взмахом руки толкает коляску с плачущим младенцем вниз по лестнице, к обрыву в море, – вот они, самые знаменитые кадры мирового экрана… Долго, сжимая сердце зрителя, скачет вниз по лестнице коляска к гибели.
Кто мучители? Власти предержащие и их холуи, прогнившая царская Россия. Авторское же отождествление себя неизменно, едино – с жертвой ненавистного строя.
Как сказал об Эйзенштейне его младший товарищ Григорий Козинцев, «вероятно, самое великое было в нем бессознательное чувство гигантских подземных толчков жизни – движение огромных масс. Он создал в наш век – Трагедию».
На пути Эйзенштейна вовсе не одни прославленные и официально закрепленные победы, но тяжкие удары, постоянный гнет режима, проработки, издевательства.
В 1926 году, после Броненосца «Потемкин», Эйзенштейн начал снимать картину Генеральная линия. В ней он хотел исследовать, что дала революция русскому крестьянину. Деревню режиссер знал плохо, был абсолютным горожанином. Но со свойственными ему упорством и наблюдательностью постигал неведомый мир.
Подлинные, документальные образы деревенской жизни, оказавшись подчиненными его, Эйзенштейна, логике и интуиции, претворились в кинематографическую поэму о русской деревне. Лев Толстой, Тургенев, передвижники – огромный культурный пласт, могучая традиция пришли в движение вслед за фактами и документами послеоктябрьской России. В эйзенштейновском замысле глухая, звериная, дремучая старина и революционная новь противостояли друг другу как некие философские категории.
Тему вековой деревенской разобщенности начинало своего рода вступление: поле в чересполосицу, раздел крестьянского двора, изба, которую пилят пополам, по живому бревенчатому телу, два брата-мужика.


Страдания безлошадных; пахота на коровах; крестьянка, сама впрягшаяся в плуг, – это Марфа Лапкина, главная героиня картины.
В отчетливо ясных, медленных, суровых кадрах проходит постоянная, как смена времен года, борьба со скудной природой за то, чтобы кое-как прокормить себя и худых своих ребятишек.
Нет, так жить нельзя! Титр, все возвращаясь на экран, оповещает о Марфином решении и о том, что «надо сообща»! Идея коллективизации по Эйзенштейну рождается кровной потребностью, глубинным откровением, она выливается стоном из самой российской глуши. Марфа Лапкина – вдова, беднячка, одна из многих, та, во имя которой и была совершена революция, – выходит посланницей деревенской старины навстречу революционной нови.
Крестьянка Марфа Лапкина, исполнительница роли, была женщиной очень одаренной и обладала редкими для экрана выразительностью и непосредственностью. Позже Эйзенштейн отмечал, что в Старом и новом типаж (Марфа) работает как настоящий актер, – и это действительно так.
Однако кому-то Марфа Лапкина не понравилась. Внешность ее показалась неказистой. Видимо, уже тогда хотелось, чтобы советская крестьянка радовала глаз, была кровь с молоком, выступала павой.

Фильм Эйзенштейна Генеральная линия вышел под названием Старое и новое
Генеральная линия вышла в свет лишь в ноябре 1929-го под названием Старое и новое – Сталин лично вмешался в процесс работы, изругал готовое, потребовал переделок, которые и пришлось выполнять.
Зная, какой именно теме посвящен фильм Эйзенштейна и какие события развернулись в деревне в «год великого перелома», когда суждено было фильму выйти в свет, легко представить, что вполне патриархальными уже казались и Марфа Лапкина, и ее самодеятельная артель, чьим прототипом явились трогательные Пошехонско-Володарские и Маклочанские коммуны ранних 20-х годов. Конечно, они выглядели чересчур идиллически на фоне сплошной коллективизации и раскулачивания. Сельскохозяйственная поэма Эйзенштейна, его просветленные образы, мечты о всеобщем счастье противоречили трагической реальности российской деревни.
По целому ряду причин, прежде всего политических, но и производственных тоже, не был завершен фильм Да здравствует Мексика!, снимавшийся на рубеже 1930-х в Америке. Отснятый материал – десятки тысяч метров пленки – советское начальство не потрудилось вернуть на родину, десятилетиями он оставался за океаном, из него чужими руками было сделано несколько монтажных фильмов, и лишь в 1979 году сорежиссер Эйзенштейна Г. В. Александров сумел смонтировать и выпустить фильм на родине.
Не только запрещен и вдребезги разбит жестокими проработками, но и физически уничтожен (в единственной копии, то ли смытой, то ли сожженной; восстановить его контур в монтаже стоп-кадров удалось только по чудом сохранившимся срезкам) был второй фильм Эйзенштейна о деревне Бежин луг (1935). В основу этой деревенской трагедии был положен реальный факт гибели пионера Павлика Морозова на Урале в разгар коллективизации. Хотя обстоятельства убийства мальчика, будто бы донесшего на собственного отца-кулака местным властям и ставшего жертвой мщения его подручных, были смутны с самого начала и так и не раскрыты до конца впоследствии, Павлик стал национальным советским героем.


Бежин луг, фильм Сергея Эйзенштейна
В фильме мальчика звали Степок. Криминальная история, поиски виновных, злободневность и классовый конфликт Эйзенштейна, по сути, не интересовали. Для него это снова была русская деревня Старого и нового, щемящая болью, сохраненная в душе. И, наверное, собственная личная тема, она же вечная тема «отец и сын». Воображение художника уводило жестокие советские драмы далеко к библейской Книге Бытия, в пустыни Филистимские, где Авраам раскладывал костер, чтобы принести в жертву любимого сына Исаака по велению Божию.
Но при всей философской умозрительности, сказавшейся на концепции фильма, стилистика его была классически проста, прозрачна, поэтична. Атмосфера тургеневских мест, куда перенесено действие фильма Бежин луг (по названию знаменитого рассказа), воссоздавалась во всей красоте и прелести среднерусской природы. Спокойные ясные кадры цвета кованого серебра были пронизаны светом, искрились солнцем. Даже по срезкам, кускам пленки, которые или дублировали вошедшее в смонтированную ленту, или остались вне фильма, видно, какой шедевр был уничтожен. Обвинением картине стал пресловутый «формализм», кампания против которого разгоралась и дошла к середине 1930-х до своего апогея, – под «формализм» подпадало все то, что не вмещалось в навязанные рамки соцреализма.
Разгром Бежина луга, когда Эйзенштейну пришлось «каяться» в своих «ошибках», неприкрытые гонения, видимо, показались властям опасными для репутации страны в глазах западной интеллигенции, для которой престиж Эйзенштейна был незыблем. И в отношении к нему делается крутой поворот. Разруганному и гонимому поручают правительственный заказ – фильм об Александре Невском, собирателе русских земель, полководце, разбившем войско тевтонских псов-рыцарей на льду Чудского озера. Прозрачная конъюнктурность сценария официозного Павла Павленко никого не обманывала: речь шла о силе русского оружия в предвестии возможной войны.


Александр Невский, фильм Сергея Эйзенштейна
Эйзенштейн со своими великими коллегами и единомышленниками, композитором Сергеем Прокофьевым и оператором Эдуардом Тиссэ, создали экранную фреску, которая вошла в сокровищницу мирового кино.
И, наконец, последний трагический узор биографии – Иван Грозный: первая серия (1945) – Сталинская премия 1-й степени; вторая серия – разгром в постановлении ЦК от 1947 года, запрет, выпуск в прокат лишь в 1958-м, в «оттепель»; третья серия (замысел) – закрытие съемок. Об этом фильме – лебединой песне Эйзенштейна – в главе 5.
Красота революционного эпоса
Рядом с Эйзенштейном принято ставить его современников – Пудовкина и Довженко. Не изменим же этому обычаю. Тем более что судьбы этих великих художников действительно параллельны и в радости, и в печали, в хвале и в хуле. При всех различиях индивидуальности, склада характера, традиций, все трое – такие несходные – фатально движутся в едином магистральном направлении, синхронно намечая, проходя и минуя определенные стадии пути советского кино.
В 1920-х – это магистраль революционного эпоса. Рядом со Стачкой, Броненосцем «Потемкин», Октябрем Эйзенштейна встают Мать (1926), Конец Санкт-Петербурга (1927), Потомок Чингисхана (1928) Пудовкина и – чуть позже – Звенигора (1928), Арсенал (1929) Довженко. Параллель между деревенским Старым и новым Эйзенштейна и деревенской Землей Довженко тоже напрашивается.
1930-е годы у всех троих будут временем поисков новых тем и новых решений, утраты лидерства и в жанре эпопеи, и в кинематографе вообще, в результате чего во второй половине десятилетия оба российских корифея обращаются к историческому фильму, а великий украинец продолжает тему своих немых революционных поэм в биографическом Щорсе. Сходны и последние годы их жизней: перепады от официозных признаний к проработкам и остракизму. Но пока это далеко впереди, пока фортуна им улыбается и еще горят для них огни Октября.
Всеволод Илларионович Пудовкин (1893–1953), по происхождению из служащих, по университетскому образованию физик, был призван на фронт мировой войны артиллеристом, попал в немецкий плен, лагерь, откуда бежал. В Москве работал в химической лаборатории военного завода, пока в 1920-м не поступил в Первую Госшколу кинематографии. Школа жизни, профессиональная школа В. Р. Гардина, первого его учителя в кино, и мастерская Л. В. Кулешова воспитали человека высокоответственного, разностороннего, умелого, увлеченного кинематографом как искусством коллективным. Везде и всюду (актер, сценарист, постановщик, автор теоретических трудов по кино) он первоклассный профессионал. Уже первые режиссерские «пробы пера» – двухчастевая шуточная лента Шахматная горячка (1925), научно-популярный фильм Механика головного мозга (1926) – обнаружили в начинающем зрелого мастера, владеющего фактурой. В первой, запечатлевая Международный шахматный турнир в Москве, режиссер удачно сочетал фрагменты хроники с игровыми пародийными кусками «шахматного психоза»; во второй, добиваясь внятного, общепонятного изложения теории И. П. Павлова, поставил на службу науке кинематографические средства монтажа, ритма, выразительной композиции кадра.

Всеволод Пудовкин
Новаторство в духе эйзенштейновского «кинематографа масс» привлекло к себе и Пудовкина. Естественно! После знаменательной премьеры Броненосца в Большом театре эпопея стала едва ли не «официальным» жанром-фаворитом. В это время на студии Межрабпом-Русь, в штат которой Пудовкин поступил работать, залежалась «плановая единица» (темпланы уже были в ходу) – Мать по роману Горького. Ее-то и взялся осуществлять Пудовкин по сценарию драматурга Н. А. Зархи. Пудовкин поручил главную роль актрисе МХАТа Вере Барановской, еще недавно трепетной Ирине из Трех сестер, а ее сына революционера Павла Власова – тоже мхатовцу Николаю Баталову.
С точки зрения кулешовской мастерской, эстетической alma mater Пудовкина, это было самым настоящим ренегатством, рывком в сторону презираемого «психоложества» и продажей «натурщика» ненавистному «артисту». Но Пудовкин твердо стоял на позиции компромисса. Пудовкин, по воспоминаниям современников, человек очень эмоциональный, непредсказуемый, порой эксцентричный, как актер – гротескный, склонный к резкой выразительности (Жбан в Мистере Весте, юродивый в Иване Грозном), в режиссуре стал адептом умеренности и гармонии.

Мать, фильм Всеволода Пудовкина
Эйзенштейновские жестокости, мучительная жалость и ненависть – не для Пудовкина. Его мастерский монтаж (пройдена школа кулешовского монтажа, но она же и изжита) плавен, спокоен, кадры у него и у его постоянного оператора Анатолия Головни красивы и вне зависимости от материала, пусть неэстетичного и убогого. По-своему прекрасен даже неприглядный фабричный ландшафт в Матери, и нищее жилище Власовых с его отдраенным дощатым полом, и даже дымный зал трактира.
Если не считать увлечения резким контрастом и смысловой диспропорцией предметов в кадре (дань немецкому экспрессионизму), то манеру Пудовкина в Матери можно считать и оригинальной, и наиболее классичной, воплощающей общие художественные свойства советского экрана 1920-х наиболее емко и уравновешенно.
Главный зрительный лейтмотив фильма – крупные планы-портреты Ниловны. Серия их выполняет психологическую задачу: сначала героиня снята с верхней точки – она придавлена к полу, распластана; далее, приобщаясь к революционному делу сына, она как бы расправляет спину, поднимается, молодеет. Унылое и тусклое лицо ее освещает улыбка, она красива; хрестоматийный кадр матери под знаменем на демонстрации – героический ракурс образа.
В Конце Санкт-Петербурга Пудовкин отступает от драматизма, определенной лиричности и забрезжившей было человечности в показе отношений матери и сына – в сторону массового действа. И хотя фильм, в отличие от эйзенштейновских «массовых» эпопей, имел в центре фигуру протагониста, безымянного героя, который зовется Парень, это был не индивидуальный характер, а олицетворение – представитель народа (большой, брутальный, натруженные тяжелые руки, спутанные пшеничные волосы под кружок). Сквозь историю Парня передается история революционной России: обнищание трудящихся, война, Февральская революция, краткие дни Временного правительства, Октябрь…

Конец Санкт-Петербурга, фильм Всеволода Пудовкина
Соответственно возникают надписи-интертитры: «Пензенские… Новгородские… Тверские» – и кадры убогой соломенной деревни; «Путиловские… Обуховские… Лебедевские» – и кадры заводских цехов, так как Парень приходит в Питер на заработки. А дальше «пензенские», «обуховские» превращаются в пушечное мясо окопов. Проведя персонаж-олицетворение через все испытания эпохи, Пудовкин завершает его судьбу в минуты взятия Зимнего дворца – миф о штурме твердыни находит, по сравнению с эпической эйзенштейновской, «камерную» версию: счастливый человек, Парень-победитель, Хозяин, уплетает горячую картошку на ступенях свергнутой твердыни царизма. А принесла этот чугунный черный котелок на беломраморные растреллиевские ступени еще одна рабочая мать – в этой роли Пудовкин снял опять Веру Барановскую, свою Ниловну.
Конечно, у мастеров ранга Пудовкина и Головни в их эпосе был и высокий уровень, и много прекрасного: поэтические кадры деревни, Невы, по чьей глади тихо плывет белый парусник, портрет маленькой старушки, которая ведет Парня в столицу. Но много было и невнятицы, особенно во фронтовых батальных сценах. Если же поставить вопрос о «долгожитии» картины, о восприятии ее по прошествии полувека, то Конец Санкт-Петербурга, не говоря уже о горько-одиозном названии, принадлежит скорее к фильмотечным раритетам, нежели к действующему просмотровому фонду Великого немого, широко циркулирующему ныне во всем мире.
Иное дело следующий фильм Пудовкина – Потомок Чингисхана (за границей шел под названием Буря над Азией). Блюстители «чистой формы» несколько кривились: уступки сюжету и публике. О «кассе», о зрителе новаторы 1920-х не заботились, эпопеи все чаще шли при пустых залах, а Потомок Чингисхана имел аншлаг, что в глазах новаторов приобщало его к кино «традиционалистов».

Потомок Чингисхана, фильм Всеволода Пудовкина
В действительности же Пудовкин приобщался здесь к человечному, неповторимому и увлекательному. Будто бы действительный факт: у одного из захваченных интервентами в Монголии красных партизан была обнаружена грамота, удостоверяющая его принадлежность к роду великого завоевателя Чингисхана. Интервенты-англичане попытались посадить на трон этого наследника-марионетку, но партизан вернулся в свой революционный отряд.
Группа выехала в длительную экспедицию в Монголию, где были сняты вещи поразительные. В частности, в дацане под Улан-Батором – священный праздник Цам, шествие масок и ритуальные танцы; этнографическая ценность и подлинность этих уникальных кадров сочетались с редкой пластической выразительностью. Это было истинное открытие Востока без привычной павильонной экзотики и ориентальной красивости.
Плакатного Парня сменил здесь настоящий индивидуальный герой – монгольский пастух-бедняк Баир, фигура живая, яркая, обаятельная в исполнении замечательного актера, ученика Мейерхольда и Эйзенштейна, бурята по национальности Валерия Инкижинова (ему предстоит большое будущее в западном кино).

Одной из вершин немого кино (не только отечественного – мирового) нужно считать сцену, когда, изнемогая от жажды в своих апартаментах, они же – тюрьма, Баир, боясь повсюду подсыпанного яда, добирается до аквариума, чтобы наконец напиться безопасной воды, но от слабости падает, опрокидывает стекло, и вот на ковре бьются выплеснутые красавицы рыбки – метафора судьбы героя. Вокруг Инкижинова – выразительные портреты: бывший кулешовец Борис Барнет, постоянные артисты Межрабпома Анель Судакевич, Алексей Файт и типажи из местных лам и крестьян – единый ансамбль, который при желании можно называть и «коллективом натурщиков», настолько они, эта россыпь характеров, и натуральны, и едины по стилю.
Если не считать бравурного и обязательного в ту пору победного штурма партизан, Потомок Чингисхана – не «архивный», а абсолютно живой фильм начала 2000-х.
Пудовкин Всеволод Илларионович
(1893–1953)
1925 – «Шахматная горячка»
1926 – «Механика головного мозга»
1926 – «Мать»
1927 – «Конец Санкт-Петербурга»
1928 – «Потомок Чингисхана» («Буря над Азией»)
1931 – «Простой случай» («Очень хорошо живется»)
1933 – «Дезертир»
1938 – «Победа» («Самый счастливый»)
1939 – «Минин и Пожарский»
1941 – «Суворов»
1941 – «Пир в Жирмунке» (новелла в Боевом киносборнике № 6)
1942 – «Убийцы выходят на дорогу»
1943 – «Во имя Родины»
1947 – «Адмирал Нахимов»
1950 – «Жуковский»
1953 – «Возвращение Василия Бортникова»
Обычными в 1920-х уже были регулярные московские просмотры фильмов, снятых в других республиках СССР. Корифеи русского кино знакомились с работами коллег. Однажды, в 1928-м, смотрели привезенную из Киева картину с красивым названием Звенигора. Эйзенштейн так вспоминал этот просмотр: «Мама родная! Что тут только не происходит! Вот из каких-то двойных экспозиций выплывают острогрудые ладьи. Вот кистью в белую краску вымазывают зад вороному жеребцу. Вот какого-то страшного монаха с фонарем не то откапывают, не то закапывают обратно.
…Однако картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского.
…Просмотр кончился. Люди встали со своих мест и молчали. Но в воздухе стояло: между нами новый человек кино. Мастер своего дела. Мастер своей индивидуальности. И вместе с тем мастер наш. Свой… Перед нами замечательная картина и еще более замечательный человек… И когда этот человек, какой-то особенно стройный, тростниковой стройности, хотя уже не такой молодой по возрасту, подходит с полувиноватой улыбкой, – мы с Пудовкиным от всей души пожимаем ему руки…»
Здесь великолепна не только «рецензия» на фильм и его автора, но документ времени и принципов творческой дружбы «равных»: два признанных первых мэтра советского кино приняли в свою «тройку» еще одного – Александра Петровича Довженко (1894–1956). И явилась миру еще одна самобытная версия фильма революционных конфликтов и страстей. Еще один незнакомец откуда-то с неба упал в кинематограф!

Александр Довженко
Он родился и вырос в низенькой хате под яблонями, в селе Сосница, на Черниговщине, у «зачарованной Десны», как называл он сам свою родную реку в древнем краю земледельцев-славян, в царстве подсолнухов. Сызмала отмеченный поэтическим даром хлопчик должен был стать учителем – очень «престижная» карьера в глазах односельчан.

Звенигора,фильм Александра Довженко
Но к году 1926-му, когда Сашко (так и называлась статья Эйзенштейна) прибило волной в Одессу, в реквизированную киностудию Б. Харитонова, ныне ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), он уже успел, как и более «зрелые» Эйзенштейн, Пудовкин, Дзига Вертов, немало в жизни повидать. Учился в Коммерческом институте и в Академии художеств, заведовал отделом искусств и был комиссаром театра, побывал на дипломатической службе в Берлине, где вращался в художественных салонах артистического района Шарлоттенбург… В кино пришел из газеты, где подвизался художником-графиком. В кино же снял по собственному сценарию комическую короткометражку Ягодки любви и приключенческую Сумка дипкурьера, где сам он, красавец, играл кочегара. Он мог бы стать кинозвездой, ему была открыта дорога кассового кино со смешными комедийными двойняшками и приключениями курьеров, а он, мятежный, избрал другой путь…
Александр Довженко начался с фильма, который так восхитил московских кинозаконодателей.

Звенигора
Звенигора у Довженко – это заповедные украинские степи между Киевом и Запорожской Сечью, места сражений с татарами, с поляками. Согласно народным преданиям, счастье Украины – таинственный клад – зарыто в курганах Звенигоры. У Довженко эта легенда модернизирована: счастье Украине принесет социалистическая революция.
В Звенигоре впервые воплотился образ героя, который пройдет далее через все творчество украинского мастера. Играл этого героя по имени Тимош – Василь в Земле один и тот же артист С. Свашенко, чьи данные полностью отвечали идеалу художника: могучий черноокий парубок с волевым лицом и умными глазами. Это украинский брат или побратим Парня из Конца Санкт-Петербурга.

Земля, фильм Александра Довженко
Образ Тимоша в Звенигоре возникал на фоне поэтических лугов и дубрав, светлых озер и рек, снятых Борисом Завелевым, в прошлом – оператором Бауэра. Другой важнейший аллегорический персонаж фильма, Дед (читай: народ), имеет двух внуков – прекрасного Тимоша и подлого приобретателя Павла. Советская власть (Тимош) и буржуазный национализм (Павел) сражаются за народ.