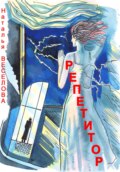Наталья Александровна Веселова
Хроники странствий петербургского художника
От автора
Я всегда считал жизнь отдельного человека (личности) высочайшей ценностью. Может, поэтому сделал это смыслом своего художественного творчества. Жизнь и судьба – вот две константы, два императива, которые волновали меня более всего прочего. Я считал и считаю, что жизнь есть самый творческий процесс, где время, пространство и населяющие их люди неразрывны с волей отдельного человека и активно формируют его личность, определяют его моральный облик и ценности, которые он исповедует.
Когда я стал вспоминать и записывать историю своей жизни, то оказалось, что это история моих странствий и возвращений. С самых ранних лет, когда я осознал себя как личность, я заразился неизлечимой болезнью познания себя в окружающем мире, она будоражила и страстно призывала меня отправиться в Путь. Когда Господь дал мне талант художника, я немедленно воспользовался этим, чтобы познать трудности и счастье пути. Сейчас мне 73 года. Куда же привёл меня тот путь? Об этом, дорогой читатель, моя книга. Книга моих странствий человека и художника.
Я не очень печалился по поводу её публикации. Ведь, привыкший к разговорам с собой, я писал её для себя. Меньше всего я думал, что из моих странствий и возвращений получится книга… Но, благодаря настойчивости и воле моей любимой жены, прекрасного писателя и друга Натальи Веселовой, кажется, она увидит свет и встретит своего читателя… Желать чего-то большего, чем увидеть свою жизнь на страницах книги, которая, возможно, продолжит мой путь во времени и пространстве, для меня высшее счастье и благодарение! Чего же ещё…
Начало. Годы в Академии Художеств
Первые поездки по стране
Возвращение в юность
Чувствовал ли кто-нибудь что-то подобное? Наверное, да… Но вот сегодня я испытал необычные и сложные чувства. Случай привёл меня в места моей юности, и это стало для меня испытанием… Всего десяток остановок питерского метро – и вот я на Петроградке (Петроградская сторона – исторический центр Санкт-Петербурга). Как же давно я не приезжал сюда, как если бы какая-то неведомая сила не пускала меня в это заповедное пространство моей некогда расцветавшей здесь жизни… Я не спеша иду от Горьковской по Кронверкскому проспекту вдоль Парка Ленина; это странно, но я не знаю сегодняшнее название этого парка моей юности. Как часто, мы, восьмиклашки, прибегали сюда во время перемен в нашей 81-й школе на Татарском, чтобы купить мороженое и вдохнуть полной грудью прохладный аромат близкой Невы…Случалось после уроков забегать и в расположенный в пяти минутах ходьбы зоопарк… В клетках там сидели невиданные звери, от них пахло воображаемой свободой, неведомой тайгой, пряными ароматами степей и раскалённым песком пустынь… Все это мне ещё предстояло увидеть в будущем, которое распахнёт свои двери в огромный и удивительный мир, который и сделает меня художником. Вот и моя бывшая школа в Татарском переулке – три этажа невзрачного здания с типовыми окнами, ничего выразительного снаружи, а внутри… Войти невозможно – охрана, здание школы куплено московскими частными лицами, с этого года здесь будет частная Английская школа – так объяснил мне охранник… Самый конец августа, по-питерски жаркий день, 6 часов душного вечера, такое чувство, что находишься на другой планете, – что-то марсианское, я не чувствую дуновения свежего невского ветерка, той ароматной свежести, которая окутывала меня в ранней юности. Изменилось время, изменились запахи, удушливый запах бензина безжалостно выдавил эту утреннюю свежесть моей невозвратной юности.
Кстати, эта моя первая и столь памятная изостудия располагалась напротив дома, во дворе которого находилась впоследствии широко известная «Камчатка» – котельная, где позднее начинал легендарный Виктор Цой. Огромный пустынный питерский двор, не сразу и увидишь это подвальное помещение, разве по многочисленным надписям на стенах, начертанных руками его преданных фанатов.
Но это будет много позднее, а тогда, в 1958 году, в этой крошечной рабочей изостудии меня встретил молодой и красивый человек с живым лицом, черноволосый, невысокого роста, одетый в безупречный серый костюм в мельчайшую клетку. Внешность его казалась исключительно притягательной. Это был мой первый и дорогой учитель – Владимир Викторович Прошкин, впоследствии выдающийся ленинградский живописец-пейзажист, заслуженный художник РФ, а тогда только окончивший Академию Художеств начинающий художник, правда, потомственный, из известной династии художников Прошкиных. Он принял меня по-доброму, с отеческой теплотой, и я это очень хорошо почувствовал. Несколько раз в неделю после школы я приходил на занятия в нашу крошечную комнату, где уже стояли два или три натюрморта и пытался воспроизвести их на бумаге акварелью. После этого я с робостью новичка начинал рисовать гипсы, время летело незаметно, я был очень увлечён занятиями. Владимир Викторович мягко, очень деликатно указывал мне на мои ошибки, ненавязчиво объясняя, как делать правильно. Но самым увлекательным и интересным были его рассказы о ремесле художника, о случаях из своей жизни и о многом другом. Наш учитель был великолепным рассказчиком, наслушавшись его, я всегда узнавал много нового для себя. До сих пор слышу его красивого тембра голос, глаза его искрились, лицо становилось прекрасным. Признаюсь, я был влюблён в своего учителя. Уходил домой поздно и с нетерпением ждал новой встречи. Ну, и конечно, никогда не забыть мне наши выезды на этюды с любимым учителем. Собиралась небольшая разновозрастная группа (школьник в моем лице, рабочий завода Кулакова, молодая женщина-научный работник), и мы отправлялись либо в парк Победы, либо на набережную Невы, а порой в ближний пригород, и с удовольствием писали акварелью, иногда наблюдая, как пишет маслом наш учитель. Может быть, с тех самых пор я полюбил практические занятия на природе. Много позднее, уже в Академии, я обожал летние практики в разных удивительных местах страны, таких, как Пушкинский заповедник в Михайловском, или в Риге, или Кулдиге, или на Вологодчине. Ну, а потом я уже не мог остановиться, стал много ездить по стране и рисовать, рисовать, рисовать…
Вот, что вспоминается, когда я сейчас стою и смотрю на окно нашей изостудии, с которой все началось. Вспоминаю и памятный апрельский день 1961 года – первый полет Юрия Гагарина в космос. Мы рисовали, когда стало известно об этом феноменальном событии. Все, кто был в это время в студии, выбежали на улицу, вскоре оказавшись на мосту Строителей. Всюду ликование, атмосфера праздника, голова кружилась от запаха невской воды и происходящего вокруг. Это незабываемо… Люди кричали: «Ура!», поздравляли друг друга, это чувство особого счастья и гордости осталось во мне навсегда…
Вот и очертил я свой ближний круг. Прошёл-таки маршрутами моей далекой молодости. Что почувствовал? Сложно ответить… Очень похоже на трудное пробуждение от долгого забытья, похожего на летаргический сон, долгий неохватный сон приснившейся мне как бы чужой жизни… А, может, на колкое щемящее чувство невозвратности времени или на странное чувство расширения пространства… То, что было легко доступно 50 с лишним лет назад, сегодня преодолевается с трудом, будто что-то сопротивляется тебе, как если бы ты возвращался из тяжелого и изнурительного похода длиною в жизнь и, весь налитый свинцовой тяжестью, с трудом передвигаешь ноги, а в уставшем мозгу стучит тупая деревянная мысль оставить эту глупую затею – заглянуть туда, где все давно испарилось и слишком давно отправлено в архив, на глухие задворки забитой усталостью памяти… И правда, разве не закрыто все это на один недоступный тебе кодовый замок? И бывшая школа, и дом, где жил, и двери первой изостудии… Разве что тяжелые церковные двери Князь-Владимирского собора по-прежнему открыты…
И все-таки ноги, мои бедные ноги, почти не повинуясь мне, упрямо ведут к моей бывшей школе-восьмилетке… Что такое? – спрашиваю себя – что я упустил? О чем не вспомнилось на этом давнем пути, на этих скучных тротуарах моего предутра? Пожалуй, как это бывает со мной, – самое главное…
Они, мои порядком уставшие ноги, уже переходят Зверинскую улицу и коротким узким переулком (как же он назывался?) снова приводят меня к этому месту… Ну, конечно, как же я мог забыть! Да, пожалуй, отсюда, начался мой путь туда, откуда нет возврата. Если все это можно назвать восхождением, то оно началось именно отсюда…
А было так: стоял яркий май 1963 года. Я заканчивал 8 класс. До первых моих школьных экзаменов оставались считанные дни. На переменах мы, мальчишки-восьмиклассники, часто, как оголтелые, выбегали на улицу (это был узкий Татарский переулок) и, перебежав его, устремлялись на территорию расположенного напротив школы детского сада, где, не чуя ног, носились друг за другом. Это называлось «пятнашки». В тот день мы, как всегда, гонялись друг за другом по асфальтированной территории детсада. Забравшись на высокий деревянный сарай, я, убегая от своего одноклассника, шустрого черноглазого паренька и моего приятеля Генки Сойкина и пытаясь перемахнуть через шаткие деревянные перила, зацепился ботинком за гвоздь и сорвался вниз головой. Уже в падении я, вытянув обе руки, пытался защитить голову… Удар – и через секунду я с ужасом увидел, что моя левая рука выше кисти странно изогнулась, и из неё торчит обломок окровавленной кости…
Смутно помню последующее. Меня била мелкая дрожь, когда в медпункте школы мне накладывали временную шинку, а после «скорая» везла меня в больницу. Было больно и досадно. Впервые я чувствовал реальную физическую боль, и это стало для меня первым настоящим потрясением: теперь я узнал по себе, как это бывает с другими… Оглушённый и притупевший, я думал о выпускных экзаменах, которые, скорее всего, не смогу сдавать со всеми, было жаль мать, которая будет огорчена (она работала в той же школе преподавателем), было обидно и за себя. Я вдруг осознал, что случившееся со мной каким-то образом повлияет на мою дальнейшую судьбу. Так оно вскоре и произошло…
Я провалялся в больнице Эрисмана больше месяца. За окнами бушевала питерская весна, а в большой душной палате на 16 человек стоял тяжелый дух перенесённых страданий. Как-то ночью мы проснулись от красивого незнакомого мата. Исторгавший его обладал южным малороссийским акцентом. Было понятно, что этот человек с трудом терпит невыносимую боль. Утром я увидел у своей кровати нового соседа, молодого парня с южной смуглотой. Его правая нога была на растяжке, лицо выглядело измученным. Временами он стискивал зубы, что говорило о том, что сильная боль не покидает его. Спустя пару дней мы познакомились. Парня звали Анатолием. Фамилия – Безбатько. Он был родом из Мариуполя. В Питере учился в Мухинском училище, играя за команду которого и пострадал. На футбольном поле в борьбе за мяч, ему подставили подножку, он упал и сломал бедренную кость… Вскоре его знакомая принесла ему папку с бумагой и, освоившись и примирившись со своей участью, Анатолий с редким воодушевлением рисовал портреты таких же, как он, страдальцев. Получалось у него очень неплохо. Он рассказал о своей жизни, нелегком послевоенном детстве, о детдоме, о мечте стать художником и поддержал меня в моем намерении поступить в художественную школу при Мухе, что и произошло осенью того же 1963 года. Позднее, уже будучи учеником художественной школы и посещая Муху, я пару раз встречал своего сострадальца опирающимся на палку. Как сложилась его дальнейшая судьба, мне неизвестно, но я хорошо запомнил, как связали нас однажды перенесённые страдания и влюбленность в наше спасающее художническое ремесло, которое впоследствии стало моим утешением в жизненных невзгодах и единственным смыслом моей дальнейшей жизни…
Вот такая получилась картина… Написанная спонтанно, в один сеанс, широкими крупными планами и мазками, на далеко непрочном полотне моей памяти, похожей на перевёрнутый бинокль… Это когда переворачиваешь его и видишь все уменьшенным и удаленным. Что-то истаяло, заволокло туманом давно прошедшего времени, отливом отнесло в море Вечности, но главное, то, что зацепила память сердца, думаю, осталось. Осталось… И то сказать, иногда вдруг закроешь глаза и нежданно-непрошенно, дохнёт на тебя из давнего далека студёная невская прохлада, замигает солнечно-зелёным майская зелень парка Ленина, блеснёт утренним золотом шпиль близкого Петропавловского собора, обступят со всех сторон облупленные фасады знакомых старинных домов родной Петроградки, просочится в ноздри полузабытый кисловатый аромат дворов-колодцев, долетят жалостливые крики обезьян из недалёкого зоопарка, прозвенит, вторя им, длинный деревянный трамвай под номером 6, идущий к Смоленскому кладбищу на Васильевский остров… И вот уже странно затрепещет сердце, и легким хмелем ударит тебе в голову далекое-близкое твоего начала, молодых лет туманной юности… Этот безгрешный, чуть наивный акварельный эскиз будущей жизни… И кто знает, не эти ли трепещущие первомайскими флагами, алым на голубом, дни и годы мимолетной юности, когда-нибудь станут последним утешением твоей долгой и порожистой жизни…
Возвращение в юность… Воспоминания… История жизни… Человеческая история… Большая история…
Часто, возможно, в силу возраста (я незаметно перемахнул семидесятилетнюю планку), я думаю о природе времени, отпущенного каждому человеку в этой жизни, и о том, что само время ежечасно поглощается большой историей, историей рода, страны и мира, наконец, о том, как мы, то есть, каждый отдельный человек со своими жизненными сроками, встроены в эту огромную, опоясывающую весь земной шар крепостную стену мировой истории, защищающую каждого отдельного человека от яростного штурма неумолимого времени… Но кто способен рассказать, поведать об этой великой и несокрушимой истории жизни каждого отдельного человека, кроме него самого?… «Людей неинтересных в мире нет», – утверждал поэт-шестидесятник Евтушенко. Кто бы спорил с этим утверждением, тем более, что каждый живущий знает, что его личная история жизни – самая-самая, и это действительно так. Вопрос в другом: сможет ли сам человек поведать свою историю посредством литературы, или он делегирует эту привилегию профессиональному литератору, а этот последний, волен трактовать её по-своему, как подскажет фантазия. Так кто же способен замахнуться на эту великую битву со временем, противостоять ему подвигом своего летописания? Кто способен укрепить собой эту крепостную стену Большой Всемирной Истории? К сожалению, немногие… Не задумываясь о ценности собственной жизни, что равнозначно неуважению к себе, мы проигрываем битву со временем, становясь безликими жертвами этой невидимой войны.
«Люди, люди – высокие звёзды, дотянуться мне б только до вас!» – мечтал мудрый Расул Гамзатов в одном из своих стихотворений… Не потому ли так важно дотянуться до самих себя и, обнаружив себя на безбрежном небе истории, зажечь на нем свою путеводную звезду? Вот почему я продолжаю своё возвращение в юность, невзирая на то, что огромное большинство пока живущих людей заняты совсем другими делами…
А тогда я ходил и листал страницы своей бесконечной жизни… Съезжинская улица. Вот наш дом песочного цвета, яркий по архитектуре, как замок, на углу Пушкарской улицы, мы переехали сюда в 1955 году, когда отец стал помощником прокурора Петроградского района. Отец, мать, бабушка (ей был 81 год), старшая сестра… Удивительно, что и сейчас четыре больших итальянских окна на втором этаже, выходящие на улицу, наглухо закрыты точно такими же пожелтевшими, выгоревшими шторами, какие были у нас полвека назад! Похоже, никто не живёт в нашей бывшей огромной квартире… Неужели в ней навеки остановилось время, и тень покойной бабушки Ирины скучает по нас в полном одиночестве? Захожу в маленький скверик, гляжу на небольшое окошко на втором этаже, глядящее сверху вниз на небольшой и тенистый двор. Окошко так же немо и безмолвно, похоже, наша старая добрая квартира бережёт память о нас, как верный и преданный пёс… Как выросла огромная липа, обрамляющая своей победительной пахучей листвой наше тоскующее окошко! Надо же – та липа помнила и помнит нас! Вдь она с такой нежностью прикасается к стене нашего дома – почему же я забыл о ней, а она все помнила? Вхожу в наш дом со стороны Съезжинской улицы. Широкие двери подъезда на кодовом замке, в наше время такого не было. Незнакомые вывески режут глаз. Первый этаж облюбовала некая элитная гостиница с вызывающей вывеской «Наполеон». Пошловато, да куда денешься – вездесущая нажива… Вот окно квартиры, где жил мой одноклассник Алик Софийский, мой сосед по дому, кудрявый розовощекий красивый мальчик, писавший талантливые стихи… Мне давно известно, что, когда он служил в армии, его раздавило танком на учениях в Германии… Смотрю наверх: вот то окно на пятом этаже, из которого однажды ранним утром выбросился, покончив с собой, одинокий безногий инвалид… А вот здесь, на выходе из парадной, некий дядька отобрал у меня остов немецкого маузера, найденного мной в подтаявшем снегу годом раньше, возле нашего предыдущего жилья в старинном «буржуйском» особняке на Крестовском острове.
Обойдя дом со стороны Пушкарской улицы, захожу в крошечный глухой задний дворик, в нем всегда мрачно, и пахнет подвальной сыростью. Когда-то он был завален штабелями промороженных дров – во всех квартирах были высокие круглые печи и белые кафельные голландки. Во двор вёл чёрной ход из нашей огромной по тем временам квартиры. Смотрю на незаметное темное оконце в простенке второго этажа – там в моё время была кладовка, где на полках высоченных стеллажей стояли французские книги в красивых теснённых обложках с золотыми обрезами и множество других книг и словарей. Бывало, забравшись по длинной и шаткой лестнице-стремянке под самый потолок, я доставал какую-нибудь старинную книгу или журнал «Нива» начала века и с жадным любопытством первооткрывателя открывал для себя удивительные вещи… Именно там, стоя на этой шаткой лестнице с тяжелым томом большой медицинской энциклопедии в руках, я впервые узнал, а, может, догадался, откуда рождаются дети… Сколько тайн приоткрылось мне в этой мрачноватой библиотеке, скорее, похожей на чулан, хранящей запахи давних времён и далеких неизведанных мест… Не там ли, под высоченным потолком этого мрачноватого книгохранилища, родилась моя страсть к путешествиям по земному лону, моя неохватная жажда узнавания, помноженная на острую восприимчивость рождавшегося во мне художника?
Пушкарскую улицу я никогда не любил – эта узкая и душная, щелевидная улица Петроградской стороны, ничем не отразилась в моей памяти, может, поэтому я поворачиваюсь к ней спиной и направлюсь в противоположную сторону, к столь любимому мной недалекому Князь-Владимирскому собору. В 50-60-е годы 20-го века этот по-своему красивый собор 18 века, детище архитекторов Земцова и Трезини, в отличие от большинства храмов, был всегда открыт и доступен для посещения. Гнев волюнтариста Хрущева обошёл его стороной, поэтому я часто, пряча волнение, заходил под его таинственные своды, дивясь внутреннему убранству и благоговейной тишине, царящей в нем. Бабушка моя, Ирина Фёдоровна Матвеева, была глубоко верующей, и нечастые, в силу возраста, посещения церковных служб были единственной радостной отдушиной в её жизни, не считая ежедневного чтения Псалтири и других церковных книг. С её истовой верой и благодарной памятью о ней, связываю я и своё будущее воцерковление в начале 2000-х годов.
В этом красивом храме её и отпевали в 1959 году. Она умерла от инсульта… Однажды весной, придя из школы, я долго не мог попасть в квартиру… В своей крошечной светелке она лежала мертвая, побелевшая, возле кровати, и только тонкая струйка крови красной змейкой запеклась на подбородке. Накануне её внезапной смерти был странный визит: спустя 70 лет её разыскал в Ленинграде, в нашей квартире один очень благообразный старик. Как оказалось, он был тайно влюблён в молодую бабушку ещё в конце 19 века, будучи ветеринаром в Ижорской деревне Косколово, где бабушка родилась в 1874 году, и пронёс это чувство в себе через эти долгие 70 лет жизни… Они проговорили о чем-то до вечера, а на следующий день бабушка умерла от инсульта. Вот такая трагическая история двух разлучённых и любивших друг друга людей… Я склоняюсь перед молчаливым подвигом жизни моей незабвенной бабушки, Ирины Фёдоровны Матвеевой, отдавшей всю себя без остатка терпеливому служению своим близким, возможно, пожертвовав ради этого своим личным женским счастьем. Она для меня – сияющий образец истинной христианской любви, бескорыстной, терпеливой и преданной… Меня греет мысль, что там, в Раю, она нашла своё высшее блаженство и воссоединилась со своим возлюбленным.
Видит Бог, трудным, болевым оказалось для меня это случайное возвращение в то далекое время юности, где все только начиналось, где я впервые стал осознавать себя будущим художником… Как это произошло? Чтобы оживить это в себе, мне придётся, несмотря на усталость, пройти ещё одним позабытым маршрутом… Он протянулся в виде короткой, узкой и неприметной улочки от одного – только что упомянутого храма до другого, который в то далёкое время назывался Домом культуры «Красный Октябрь». Вот здесь, в бежевом шестиэтажном здании с узким портиком, на шестом этаже в те годы находилась крошечная изостудия. Именно сюда робким десятилетним мальчишкой-третьеклассником я поднялся по крутой каменной лестнице, чтобы осуществить свою мечту стать художником, да так и не прекращал её посещать до окончания одиннадцатилетки, уже другой художественной школы на Фонтанке, при Мухинском училище…
1968. Практика в Пушкинском Заповеднике
Я пишу эти воспоминания о своей страннической юности через полвека после описываемых событий, в Сестрорецке, небольшом курортном городе под Санкт-Петербургом, находясь на реабилитации, но яркость и красочность тех месяцев, мои незабываемые встречи и ярчайшие эмоции, требуют продолжать, дабы предать неувядаемые воспоминания бессмертной бумаге…
Учили нас в Академии неплохо (см. моё стихотворение «Воспоминание об Академии»). Помню, на первом курсе, уча нас тому, что тогда называлось «прикладная графика», и «культура шрифта», наш престарелый педагог-еврей, с бородой, как у Шишкина, бывало, предупреждал: «Запомните, ребята! Как бы ни сложилась жизнь, а мой предмет будет вас кормить всегда!». Как же он был прав, этот библейский провидец! Сменились десятки вождей и идеологий, рассыпалась страна, замешанная на крови Царственных мучеников и сотен тысяч безвинных жертв Гражданской войны, но великое ремесло написания вручную букв и прочего, как в каменном веке, кормит меня и поныне…
Но я отвлёкся… Было промеж нас с Саньком Рычковым что-то вроде соревнования, соперничества – оба с некоторой здоровой долей ревности следили за успехами друг друга. Подсознательная борьба за лидерство? Не думаю… Может, и было что-то такое, но это не разрушало, а, скорее, укрепляло нашу дружбу. Нас снедало нетерпение, хотелось большей самостоятельности, освобождения от «плена», привкуса риска, бесконечное унылое многолетнее обучение изобразительной грамоте угнетало, да и масштаб личности педагогов был «как говорится…». Скажу больше, Академия той советской поры, когда мы в ней учились, была смертельно скучным заведением, любые попытки проявления самостоятельности и свободы мысли жестко пресекались вплоть до исключения… Идеология КПСС душила и убивала все живое и жаждавшее быть живым… Стилистика и нормы пресловутого соцреализма и академизма казались хуже удавки… Я особенно это понял, когда пришлось поработать лаборантом в методфонде Академии сразу после школы, провалив в первый год экзамены.
Вот на какой почве всходило наше протестное, готовое ломать все преграды, часто безрассудное стремление к свободе. Просто мы с Саньком чувствовали это сильнее, невыносимее других, например, своих приезжих однокашников, для которых Питер был чем-то вроде Мекки для мусульман. Мы с пелёнок обожрались музейной регламентированной красотой и интуитивно искали выход из этих культурных катакомб… А ведь многие так и задохнулись в них на всю жизнь.
Уже на первом курсе мы увлеклись оформиловкой. Хотелось испытать себя в деле, применить свои навыки на практике. Первой нашей совместной с Саньком работой за деньги было оформление стендов знаменитого зоологического музея в Ленинграде. Место знаковое. Это было почетно. Каждому досталось по два стенда на «рыбную» тематику. Мне – «миноги и миксины». От этих слов у меня и по сейчас слюнки текут. «Вкусная» оказалась тема. Кстати, прошло полвека, а мои рисунки и по сей день служат народу «верой и правдой». Потом был Институт химии силикатов на Бирже. Огромную таблицу Менделеева вырезали из пенопласта, клеили, красили… На зависть своим однокашникам, мы получали приличные деньги. С тех пор, ещё студентом 1 курса, я, по крайней мере, уже не зависел финансово от своих работавших родителей!
Учебная практика первого курса графиков проходила в Пушкинском заповеднике, в Михайловском и его окрестностях… Это было незабываемо! Великий и озорной Пушкин находился все время рядом, дергал нас за рукав, подглядывал из-за кустов, делал неприличные жесты… А тут ещё великий Гейченко накачивал нас пикантными подробностями разгульной жизни озорного поэта в этом эффектном пейзаже. Свалившийся откуда-то с небес Евтушенко послал нас подальше за наше демонстративно небрежное отношение к его стихам (я, правда, в этом не участвовал). Не раз я встречал в окрестностях Михайловского и великого русского поэта-фронтовика Михаила Дудина, ставшего впоследствии для меня другом и примером подлинной гражданской честности и смелости…
Но и здесь, в заповеднике, мы с Саньком приложили своё умение писать антиквой. По нашим эскизам скульптором Кубасовым (Царство Небесное!) были вырублены стихи Пушкина на огромных каменных глыбах, расставленных неутомимым Гейченко в разных частях заповедника… Практика наша, хоть и была делом подневольным, однако, осталась в памяти набором ярких солнечных пятен, хотя и оттенённых болезненными воспоминаниями о немом, заброшенном, лишенном церковной жизни древнейшем Свято-Успенском монастыре, упокоившем прах поэта. Об этом убийственно провинциальном, уныло совковом облике Святых (Пушкинских) гор, пропитанном казенным духом упадка и запустения, неплохо написал кумир нынешней либеральной интеллигенции несчастный и всюду гонимый, но возвеличенный ныне Довлатов…
В стенах древнего монастыря, превращённого в музей, в некогда братском корпусе состоялась тогда и наша первая выставка летних работ, где я был представлен самым большим количеством рисунков. Осталось во мне на всю жизнь и тяжкое воспоминание о долгих и изнурительных пеших походах из Михайловского в Пушгоры и Тригорское под палящим солнцем по разным поводам, в том числе и за съестным. Увы, у нас не было лошади, как у Пушкина, и эти вынужденные прогулки были не самым лёгким испытанием для наших вечно голодных и пустых желудков… Вымученная нами полуторамесячная практика наконец-то закончилась. Ох, уж этот Пушкин, въелся он нам в печенки! Для племени вечных пушкинистов это была сахарная кость, которую они еще будут лизать и лизать до скончания мира, а у нас с Саней Пушкин отпечатался на нашей сожженной шкуре…
Я открываю Кавказ
Поезд «Ленинград – Батуми» везет на Кавказ
Позади утомительная практика в Пушкинском заповеднике и все, что с ней связано… (Да, красиво, но утомительно – жара, голод – а главное, все подотчетно.) Я не думал, что все это будет так действовать мне на нервы – эта тошнотворная подотчетность во всем…
И вот рецидив – неодолимая жажда свободы! Пришёл на помощь мой отец. Работая прокурором Курортного района, он принял участие в судьбе одного уроженца Абхазии, студента-медика, устроил его на работу в Сестрорецке, помог с жильем. Будучи благодарным отцу, тот (звали его Яша) пригласил меня погостить к собственному отцу, на свою родину – Абхазию. И вот я еду туда. Сразу оговорюсь – Кавказ всегда притягивал меня смолоду. Почему? Мне трудно объяснить. Попробую! Самое простое – неся в себе этот чрезмерный заряд Свободы, я, вероятно, тянулся к таким же свободным, до дикости, людям, а это – Кавказ! Во всяком случае тогда, в молодости, сыграл свою роль и Лермонтов, а ещё больше – мой любимый Маяковский, которому я подражал! Помните – «Как только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я – грузин…».
Словом, я еду туда, один, свободным и независимым! На станции Очамчире, меня встретил один из четырёх братьев Яши, усадил в «Уазик», и мы поехали в зеленые горы Абхазии. Это было великолепно: серпантин горных дорог, новые неповторимые запахи (!), невиданная мной доселе красотища! С высоких зелёных вершин видно далекое море, но вскоре и оно исчезает из виду. И только зеленые горы… Горы… Горы… Горы… На склонах этих зелёных гор я вижу чайные плантации. Простор, тёплый душистый воздух… Моё состояние? Потрясение! Приходят на ум странствия Одиссея, тем более, что где-то в этих местах, по легенде, и было спрятано золотое руно… Наконец, после часовой езды мы въезжаем в большое Абхазское селение, где расположен крупный чаеводческий совхоз, который возглавляет отец Яши. Меня подвозят к крыльцу огромного дома, окружённого по всему периметру открытыми верандами. Машина останавливается, и мы выходим. Нас тепло встречает отец Яши, почтенного вида пожилой человек с глазами юноши, позади него его жена, другие домочадцы… Самая дружелюбная встреча… Приятно же было мне студенту-первокурснику, городскому питерскому жителю, живущему столь далеко, почувствовать на себе такие нежданные почёт и уважение, как ко взрослому и уважаемому гостю… Непривычно, но приятно! Прожил я неделю в доме моих гостеприимных хозяев, окружённый неназойливой заботой и вниманием. В выделенной мне просторной светлой комнате с верандой, каждое утро на столе появлялся мёд, мамалыга, хлеб, овечий сыр, парное молоко… Все, что я только мог скромно пожелать себе на завтрак. Меня никто не будил, и я, как нигде, упивался этим благословенными воздухом легкого детского счастья и немыслимой свободы.
Прошло с тех пор 50 лет… По этим красивым местам ещё в девяностые годы прошла жестокая война с Грузией. Давно эта благословенная земля приняла прах моих дорогих абхазских друзей, а память об их благородном сдержанном гостеприимстве и поныне согревает мне сердце, когда я вспоминаю их. Да будет их земля самой лучшей колыбелью их благородному праху! Покойтесь с миром, мои дорогие! А я продолжу…