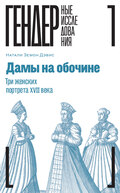Натали Земон Дэвис
Путешествия трикстера. Мусульманин XVI века между мирами
В разгар своих поездок по Марокко, примерно в 918/1512 году, после того как в начале лета он побывал в Сафи, у Йахйа-у-Тафуфта, с поручением от султана, ал-Хасан ал-Ваззан отправился в длительное двухмесячное путешествие через Сахару в Томбукту. Из Сафи он спустился в Марракеш, затем на юго-восток через горы Высокого Атласа и Анти-Атласа в Сиджилмасу, оазис на краю пустыни. Некогда красивый город, обнесенный стенами, политический и экономический центр прежних берберских династий, в начале XVI века Сиджилмаса превратилась в скопление укрепленных деревень, каждая с собственным мелким вождем, где берберы, еврейские торговцы и ремесленники, купцы из Северной Африки и из других мест торговали с землями, лежащими за Сахарой. Ал-Ваззан прислушивался к разговорам о ценах и таможенных пошлинах, рассматривал монеты местной чеканки и наблюдал, как арабские всадники собирают подати, пока, наконец, не установилась подходящая погода для отправки караванов в пустыню54.
Совершая первую поездку такого рода со своим дядей восемью годами раньше, он учился тонкостям дипломатии, а на этот раз направлялся в империю Сонгаи с полномочной самостоятельной дипломатической миссией. С середины XVI столетия правители Сонгаи сменили владетелей Мали в роли верховенствующей силы на территории, известной как Билад ас-Судан (от судан, чернокожие), Страна черных. Империя Мали, основанная одним из народов семьи манде, распространилась от города Гао в среднем течении Нигера до самого Атлантического океана. Когда могущество малийцев ослабло и они упустили Гао, то Сунни Али из племени сонгаи – «человек большой силы, огромной энергии и безжалостный головорез», по словам одного местного историка, – начал завоевание Среднего Нигера. Во время ал-Хасана ал-Ваззана под властью Аскиа Мухаммада, ревностного мусульманина и предприимчивого военачальника, многонациональная империя с центрами в Гао и Томбукту простиралась на запад от реки Нигер едва ли не до Атлантики, и на сотни миль к востоку до султаната Аир (на территории нынешнего Нигера), граничащего с королевствами хауса. В конце концов завоевания Аскиа Мухаммада на севере, на территории Сахары, охватили прибыльные соляные копи Тагазы в двадцати днях пути от Томбукту, хотя во время второго визита ал-Хасана ал-Ваззана цена на соль в Томбукту все еще стояла очень высоко55.
Ал-Хасан ал-Ваззан хорошо знал историю Аскиа Мухаммада: как он, будучи доверенным наместником сонгайского правителя Сунни Али, восстал против сына и преемника последнего в 898/1493 году и провозгласил себя султаном; и как несколько лет спустя, движимый религиозным рвением и в надежде узаконить свой захват власти, он совершил паломничество в Мекку с громадным эскортом из военных и ученых, а также с богатой казной для раздачи подарков. Это благочестивое начинание, как и долги, возникшие из‐за него, все еще были у всех на устах, когда в 910/1504 году ал-Хасан ибн Мухаммад впервые побывал в Стране черных вместе с дядей56.
Кроме того, они с дядей, надо полагать, во все уши слушали, что говорят мусульманские богословы в Томбукту о недавнем визите в Гао магрибинского ученого ал-Магили. Ал-Магили проповедовал строжайшее неприятие неверных, особенно евреев, отступников от ислама и сторонников тахлита (от халата, смешивать) – речь идет о смешении законов и ритуалов неверных с исламскими. С тех пор как он побудил мусульман оазиса Туват в Северной Сахаре не только разорвать торговые связи с евреями, но и разрушать синагоги, захватывать имущество евреев и убивать их, на него с тревогой смотрели не столь приверженные пуризму североафриканские правители, например ваттасидский султан Феса. Вскоре после этих кровавых событий в пустыне ал-Магили явился в Фес излагать свои воззрения, но рассердил и тамошних законоведов, и султана и был изгнан из города.
Не устрашенный, ал-Магили отправился на юг, в Страну черных, где около 903/1498 года встретился в Гао с Аскиа Мухаммадом, который только что вернулся из паломничества в Мекку, преисполненный обретенной там благодати (барака, божественное благословение). Ал-Магили, построив наставление в форме вопросов и ответов, указал исполненному религиозного пыла правителю, какие меры дóлжно принимать против «неверных» и «грешников». Эти категории он определял очень приблизительно. Так, он разрешил Аскиа Мухаммаду конфисковывать владения Сунни Али на том основании, что бывший правитель Сонгаи не был истинным мусульманином и позволял процветать многобожию, а также предписал Аскиа Мухаммаду освобождать любого из рабов Сунни Али, бывшего истинным мусульманином на момент взятия в плен, и, наконец, санкционировал будущие завоевания Аскиа Мухаммадом земель тех правителей, не исключая мусульман, которые несправедливо захватывали имущество своих подданных57.
Последствия этих благочестивых увещеваний были перед глазами ал-Хасана ал-Ваззана во время обеих его поездок в Страну черных. Он мог видеть множество пленных, захваченных в войнах, которые вел Аскиа Мухаммад. Кого-то из них порабощали как неверных, никогда не бывших мусульманами, женщин брали в рабство как жен ненастоящих мусульман. Ал-Ваззан отметил политику обложения тяжелыми налогами и данью, проводимую Аскиа Мухаммадом в завоеванных землях, и написал о нем следующее: «Султан Томбукту – смертельный враг евреев до того, что в его областях нет ни одного еврея. И мало того, если султан узнает, что кто-нибудь из купцов из Берберии торгует с евреями, состоит в партнерстве с евреями или является агентом евреев <…> то конфискует все его товары и передает их в королевскую казну, едва оставив ему денег, чтобы вернуться домой»58.
Важной обязанностью нашего дипломата, конечно, было доносить обо всех подобных обстоятельствах Мухаммаду ал-Буртукали в Фес. Коммерческие связи с империей Сонгаи имели центральное значение: ткани (частью из Европы), медные изделия, рукописи, финики, лошади, упряжь текли на юг из Феса, Марракеша и их областей через Сиджилмасу в Тагазу или в оазис Туват, а оттуда в Томбукту и в Гао. Золото, рабы, кожаные изделия, перец и другие специи из всего региона южнее Сахары поступали на север из Томбукту и Гао теми же путями. Султана Феса надлежало извещать обо всем, что могло нанести ущерб этой торговле, наряду со сведениями о товарах и рыночных ценах. Султан нуждался также в непосредственном наблюдении за политической и религиозной жизнью в Билад ас-Судане, Стране черных: какие царства попали под власть Аскиа Мухаммада и как они управляются? Каково положение богословов и законоведов? Связи между берберскими династиями и регионом южнее Сахары поддерживались веками, и во времена ал-Ваззана между Фесом и Томбукту существовало оживленное движение ученых людей и книг59.
Ал-Хасан ал-Ваззан не оставил нам своего точного маршрута по Стране черных, но привел подробности о некоторых остановках во время второй миссии. Судя по всему, он получил первую аудиенцию у Аскиа Мухаммада во дворце в Томбукту, который, как узнал ал-Ваззан, спроектировал андалусский архитектор двести лет тому назад. Главный королевский дворец находился в Гао, но, подобно европейским монархам, Аскиа Мухаммад постоянно путешествовал в сопровождении многочисленных придворных и по дороге решал государственные дела. Ал-Ваззану пришлось встать перед ним на колени и посыпать пылью голову и плечи – такова была церемония самоуничижения, положенная «даже послу великого правителя». За полтора столетия до этого знаменитый путешественник и писатель Ибн Баттута был свидетелем подобных же проявлений почитания со стороны подданных императора Мали и удивлялся, как они не запорошат себе глаза60.
Все общение с Аскиа Мухаммадом, на языке сонгаи или на арабском, шло через посредников. Когда ал-Ваззан отправился в близлежащий порт Кабара, он, наконец, смог поговорить напрямую с его главным начальником. Тот был родственником правителя и человеком, которого ал-Ваззан назвал «справедливым» – редкий комплимент в его устах. Находясь в Томбукту и в Кабаре, ал-Ваззан, видимо, встречал купцов из городов и селений Мали, лежащих вверх по Нигеру, и из славного города Дженне и района вглубь от него, в двухстах милях к юго-западу, на притоке Нигера. Обе территории несколько десятков лет назад присоединил к империи Сонгаи Сунни Али, и ал-Ваззан много услышал о них, пока наблюдал, как купцы из Томбукту нагружают свои небольшие суда, чтобы отправиться в путешествие вверх по реке. Может быть, когда он впервые приезжал в Страну черных, его возили туда вместе с дядей, но в этот раз он, скорее всего, повернул на восток, к многолюдному городу Гао, центру власти сонгайских правителей, с его богатым купечеством и множеством рынков. В великолепном тамошнем дворце его восхитил громадный внутренний двор, окруженный галереями, где Аскиа Мухаммад принимал посетителей; возможно, посол из Феса получил у императора вторую аудиенцию61.
Из Гао ал-Ваззан, кажется, поехал с караваном на северо-восток, в Агадес – город, из которого туарегские султаны правили своим царством Аир (на территории современного Нигера). Там ал-Ваззан выяснил, что в результате произведенного одиннадцать лет назад военного набега со стороны Сонгаи султаны платят внушительную дань Аскиа Мухаммаду, но, несмотря на это, правители получают крупные доходы от поземельных налогов и таможенных сборов. Ал-Ваззан отметил смешанный состав населения: в Агадесе доминировали берберы – элита туарегов, потомки выходцев из Сахары, а местное население, поставляющее солдат в армию правителя и занятое разведением коз и коров в южном Аире, состояло из людей с темной кожей, как и у рабов62.
Он наверняка слышал также о тахлите – смешении религиозных верований и обрядов – в царстве Аир. Среди населения, не принадлежавшего к туарегам, было много немусульман, и даже в числе последователей Пророка многие продолжали «поклоняться идолам и приносить им жертвы». Довольно любопытно, что султаны Агадеса получали наставления от ученого египтянина ас-Суйути, проявлявшего в этом смысле гораздо больше гибкости, чем ал-Магили. Ас-Суйути побуждал султанов править справедливо, в духе предначертаний Пророка и шариата, но когда его спрашивали по поводу изготовления и использования амулетов и талисманов, он говорил, что это не запрещается, «если в них не содержится ничего предосудительного»63.
Следующую большую остановку, после длительного путешествия на юг, ал-Ваззан сделал в государстве Борну, где говорили на языке канури, а точнее – в его столице Нгазаргаму, в нескольких милях к западу от озера Чад64. Борну находилось вне досягаемости для властителей Сонгаи. Его султаном, или маи, был в то время Идрис Катакармаби – человек, запомнившийся ал-Ваззану, а также описанный в хрониках и эпосе как правитель, успешно воевавший с соседями, народом булала из Канема, издавна посягавшим на его земли. Как красноречиво описывал его деяния один тогдашний факих, маи Идрис был «справедлив, богобоязнен, благочестив, смел и неустрашим» – правитель, совершивший паломничество в Мекку. Ал-Ваззан, впрочем, заметил, что султан довольно уклончиво ведет себя, когда требуется за что-то платить, но очень любит покрасоваться своим богатством. Борну находилось на южном конце одного из сравнительно легких путей через пустыню, и маи Идрис посылал по нему купцов за лошадьми в Магриб. Затем он заставлял их дожидаться долгие месяцы, а то и целый год, пока у него наберется достаточно рабов, захваченных в военных походах, чтобы с ними расплатиться. Купцы жаловались ал-Ваззану на свою судьбу, особенно огорчительную в связи с тем, что при дворе Идриса Катакармаби золото сверкало повсюду: из золота были чашки и миски, лошадиная сбруя и шпоры у всадников, даже цепи на собаках65.
Проведя месяц в Борну, ал-Ваззан проехал через земли королевства «Гаога» – таинственную область, центр которой историки ассоциируют с той или иной частью нынешнего государства Судан. По описанию ал-Ваззана местный мусульманский правитель Хомара (Умар или Амара) оправдывал свою репутацию щедрого властителя, вдвойне вознаграждая за каждый полученный им подарок. К его двору часто приезжали купцы из Египта, жаждущие обмениваться товарами, и весьма вероятно, что с каким-то из их караванов ал-Ваззан пересек нубийские земли, чтобы нанести один из трех своих визитов (возможно, первый) в страну на Ниле. Путешествие было опасным – однажды проводник сбился с пути в оазис, и странникам пришлось растянуть пятидневный запас воды в бурдюках на десять дней, но чудеса в конце поездки того стоили66.
***
Ал-Ваззан исследовал каждый уголок «великого и многолюдного города» Каира, но как дипломат он должен был выяснять, каковы политические настроения и течения при дворе престарелого мамлюкского султана Кансуха ал-Гаури. За Кансухом стояла долгая и яркая традиция: он был двадцать вторым в череде правителей Мамлюкского султаната, многие из которых имели черкесское происхождение, все владели турецким языком, все начинали как рабы-военнопленные (мамлюк по-арабски означает «принадлежащий кому-либо»), и всем приходилось отрекаться от христианской веры, в которой они родились67. Каждый из султанов приходил к власти не по законному праву наследования, а благодаря интригам, связям и военной силе. Их империя охватывала Египет и Левант, причем последний был известен как аш-Шам (Сирия) и включал в себя Святую Землю. Кроме того, они претендовали на власть над Хиджазом, западной частью центральной Аравии, и поставили там гарнизоны и крепости для защиты Мекки, Медины и других городов. Среди денежных поступлений в мамлюкскую казну шли доходы от контроля над торговлей специями и драгоценными породами дерева из Индии68.
Кансух ал-Гаури начинал как черкесский раб великого султана Каит-бея и подражал своему бывшему хозяину, осуществляя обширные строительные начинания. Ал-Ваззана особенно поразили мраморные здания медресе и мечети, возведенные султаном в 908/1502 году на Базаре шляпников. Поблизости находился и будущий мавзолей султана. Народ Каира восхищался богатым убранством новых построек, но и отпускал насмешки по поводу конфискаций, реквизиции мрамора и расхищения средств вакуфных благотворительных фондов, пущенных на финансирование этих строительных проектов. Что касается знаменитой каирской цитадели, то ал-Ваззан нашел ее дворцы «изумительными». Там султан задавал роскошные пиры и принимал своих чиновников, наместников и послов69.
Отметим, что дипломат из Феса, похоже, ни разу не был официально принят Кансухом ал-Гаури за те месяцы, что провел в Каире. Летописец правления султана Мухаммад ибн Ахмад ибн Ийас, который с любовью к деталям описывал все подобные события в своем поденном журнале, ни разу не упомянул посла из Феса. С одной стороны, 919/1513 год выдался неподходящим для приемов. В месяце мухарраме (марте) Каир поразила чума, от которой за три-четыре ближайших месяца умерло много людей. Затем султан заболел глазной болезнью и смог в полной мере возобновить свои публичные обязанности только в месяце шаабане (октябрь)70. С другой стороны, ал-Хасану ал-Ваззану было бы трудно подготовиться к дорогостоящему представлению мамлюкскому султану. Когда годом ранее принимали посла от султана Туниса, тот преподнес Кансуху ал-Гаури дорогие ткани, породистых коней из Магриба, оружие и другие драгоценные предметы стоимостью, по слухам, в десять тысяч динаров71. Столь помпезного представления ожидали от каждого посла к августейшему «владыке двух земель и двух морей». Но мог ли дипломат из Феса предстать перед султаном с подобающей пышностью после целого года нелегких странствий по Стране черных?
В любом случае Магриб не имел большого значения для Кансуха ал-Гаури. Выходцы из Магриба жили и в Каире, и в Александрии – матросы, солдаты, и особенно купцы с семьями. В 913/1507 году султан даже посылал своего официального переводчика выкупить некоторых магрибинцев, захваченных христианскими пиратами и сидевших в плену на Родосе и в других местах. В начале царствования Кансуха ал-Гаури к нему приезжали посланцы правителей Магриба с жалобами на притеснения мусульман Гранады со стороны испанцев, и тогда мамлюкский султан пригрозил контрмерами в отношении христиан в Святой Земле, если положение не улучшится. Впоследствии в 916–917/1510–1511 годах Кансух ал-Гаури праздновал победы мусульман над христианами в Тлемсене и Джербе и оплакивал потерю Триполи72, но в целом новости из этих краев редко его занимали. В сущности, кроме ал-Ваззана, тунисский посол, приезжавший в 918/1512 году, был единственным представителем Магриба, которого султан официально принял за пятнадцать лет своего царствования73. Куда больше его беспокоили действия португальских кораблей в Красном море и Индийском океане, препятствовавших египетской и сирийской торговле, а особенно политические и религиозные устремления двух владык Востока: харизматичного шаха шиитской Персии, Исмаила Сефеви, и нового османского султана Селима I74.
Хотя ал-Хасан ал-Ваззан не получил аудиенции у султана, он все же собрал сведения о его высших сановниках и об административном штате и имел возможность часто бывать в цитадели. Его вполне мог принимать султанский давадар, то есть государственный секретарь, которого он описывал как второго человека во власти, или кто-нибудь из его подчиненных. Благодаря таким встречам он наверняка узнал, что Кансух ал-Гаури направил послов в Стамбул поздравлять султана Селима с вступлением на престол и обсуждать заключение договора о дружбе, хотя у себя в Каире он тепло принял сыновей того самого брата, которого Селим убил, чтобы завладеть престолом. Ибн Ийас писал в поденных записках о том, о чем ал-Ваззан, вероятно, слышал в коридорах дворца: «Разделавшись со всеми своими родственниками, султан османов теперь может обратиться к обороне страны от европейцев». Может быть также, что дипломат из Феса пытался заинтересовать чиновников мамлюкского султана рассказами о том, как на другой оконечности Средиземного моря устраивают нападения на христиан75.
***
Тем не менее пришло время возвращаться к собственному повелителю. Как позднее ал-Ваззан вспоминал о своих перемещениях, он должен был вернуться в Фес в течение месяца шавваля 919 года хиджры (в декабре 1513 года). Ему предстояло многое рассказать султану Мухаммаду ал-Буртукали о времени, проведенном в отъезде. По поводу политических обстоятельств на юге он явно мог рекомендовать развивать отношения со все более и более усиливавшимся сонгайским правителем Аскиа Мухаммадом, а на востоке лучше обращаться за помощью против христиан к османскому султану Селиму, чем к престарелому и нерешительному Кансуху ал-Гаури76.
Возвращаться в Фес было пора еще и затем, чтобы жениться, или, если у ал-Ваззана уже была жена – что к тому времени весьма вероятно, – то настало время вернуться к ней и к домашнему очагу. Ярчайшие страницы романа Амина Маалуфа «Леон Африканский» посвящены придуманным им женщинам в жизни ал-Хасана ал-Ваззана, среди которых и жена в Фесе, приходящаяся ему также двоюродной сестрой. Написанное самим ал-Ваззаном содержит мало прямых указаний на сей счет как для историка, так и для романиста, но что у нашего североафриканца была жена – это несомненно. Подавляющее большинство мусульман и мусульманок избирало для себя стезю брака. Очень немногих прельщало возвышенное отречение от него, которое поощрял один кружок ранних суфиев столетия назад. У выдающихся святых людей Магриба, таких как ал-Джазули, были жены и дети, как, конечно, и у самого Пророка. Ученые правоведы, богословы, знатоки литературы страстно желали иметь сыновей, которые пошли бы по их стопам. У законоведа Ибн Ибрахима, который слушал лекции Ибн Гази в Фесе в то же время, что и ал-Ваззан, уже в двадцать один год родился первый сын77.
Ал-Ваззан, в это время примерно двадцати пяти лет от роду, факих, то есть ученый знаток мусульманского права, по идее, должен был уже иметь собственную жену и детей. Вероятным выбором могла стать молодая женщина из другой семьи беженцев из Гранады. Написанный им позднее подробный почасовой обзор того, как заключается брак в Фесе, несомненно, основывался на его собственном опыте, а не только на том, что он видел: нотариально заверенный контракт, в котором перечисляется махр или садак – имущество, которое муж обязуется выделить жене при заключении брака, в том числе деньги, чернокожая рабыня, шелковые ткани, расшитые туфли без задника, красивые шали, гребни, духи; далее наряды, ковры, постельное белье, настенные драпировки, входившие в приданое жены, которое давал за ней отец; поезд невесты, под звуки дудок, труб и барабанов следующий в дом жениха; их первый сексуальный контакт и демонстрация следов крови на нижнем белье жены; застолье и пляски, когда мужчины и женщины веселятся в разных помещениях. Может быть, у ал-Ваззана в эти годы уже родился сын, и он успел отпраздновать обрезание мальчика на седьмой день, что позже описывал в подробностях: как друзья отца кладут монеты на лицо помощника цирюльника и тот выкрикивает их имена до тех пор, пока все деньги не будут собраны, а обрезание совершено; как потом танцуют раздельно мужчины и женщины. А может быть, ему пришлось удовольствоваться дочерью, рождение которой «вызывает меньшую радость»78.
Мы можем представить себе довольного ал-Ваззана, поглядывающего, как в его доме стряпают, шьют и прядут – так, как, по его словам, и положено хорошей фесской жене. Или вообразим, как он слушает ее рассказ о том, что она видела с резной террасы на крыше, этого женского пространства, куда время от времени она отправляется вместе с другими женщинами дома. А еще можем представить, что в жаркий день он купается в бассейнах у подножия фонтанов во внутренней части домовладения, как и его жена с детьми, – воспоминание об этом он хранил много лет спустя. Или, опираясь на его собственное описание обычаев Феса, вообразим, как он наблюдает за женой, наряжающейся, чтобы выйти на улицу, – ее усыпанные драгоценными камнями золотые серьги и браслеты надежно спрятаны под покрывалом, а лицо закрыто куском ткани с узкой прорезью для глаз79.
Наличие жены и детей, впрочем, не мешало мужчине уезжать в долгие путешествия, при условии что он обеспечивал их содержание на время отъезда. Знаменитый Ибн Халдун впервые женился в родном Тунисе в возрасте двадцати лет, причем по делам в качестве политического советника, судьи, дипломата и ученого он ездил по Тунису, посещал Фес, Гранаду, Бискру и Каир, не считая множества других мест. Иногда жена и дети сопровождали его, в других случаях он отсылал их пожить к брату в Константину. В автобиографии Ибн Халдун написал о своем «крайнем огорчении», когда его жена и некоторые из детей утонули во время кораблекрушения по пути к нему в Египет80. Ибн Баттута, двадцати одного года, покинул родной Танжер в 725/1325 году и двадцать четыре года странствовал как паломник, студент, судья, политический советник, дипломат и любопытный наблюдатель. У него в обычае было жениться по пути на разных женщинах, начиная с дочери сотоварища по паломничеству, когда они пересекали Ливию. В Дамаске он женился на дочери ученого из Магриба, а через три недели отверг ее. На Мальдивских островах он взял себе четырех жен – сколько позволено мусульманину, но вскоре избавился и от них81.
Обзаводился ли ал-Ваззан в своих странствиях хоть раз временной женой? Мысль об этом приходит, когда читаешь его описание города Туггурта в Сахаре, примерно в четырехстах милях к юго-западу от Туниса. Тамошние состоятельные ремесленники и знать гостеприимно встречали чужеземцев, как, например, молодой и щедрый шейх Абдаллах, у которого жил ал-Ваззан. Он писал, что здесь «охотнее выдают дочерей за чужеземцев, чем за местных жителей, а в приданое выделяют мужьям дочерей недвижимое имущество, как принято во многих местах в Европе». Возможно, ал-Ваззан женился под влиянием располагающей атмосферы и возможности получить на время финиковую рощу (в противоположность фесской и обычной исламской практике, когда выкуп за невесту поступал от мужа к жене), а, собравшись уезжать, трижды произнес формулу развода (талак) и отправился в путь82. Конечно, занятно поразмышлять о таком союзе, но он кажется весьма гипотетическим в отличие от женитьбы в Фесе, то есть от обычного шага молодого мусульманского факиха, каким был ал-Ваззан.
Помимо домашних дел, после возвращения из Каира ал-Ваззан также возобновил поездки в Марокко по дипломатическим и военным делам, в том числе командировки с целью наладить совместные действия против португальцев с шерифом Мухаммадом ал-Каимом. Рассказы ал-Ваззана об энергичном новом османском султане Селиме, должно быть, были встречены с интересом и, возможно, повлекли за собой следующую миссию ал-Ваззана. Мухаммад ал-Буртукали, праздновавший победу над португальцами при ал-Мамуре, одержанную летом 921/1515 года, снова отправил ал-Ваззана за границу, на этот раз в качестве посла к другим правителям Магриба, а оттуда к османскому двору в Стамбул83.
***
В это время у берберских династий центрального Магриба – у той, что правила из Тлемсена, и у другой, в Тунисе, было еще больше проблем, чем у Ваттасидов, с удержанием контроля над племенами и городами, входившими в их владения. В Алжире имелся собственный правитель, которым был тогда один арабский племенной вождь, а многочисленные городки вдоль средиземноморского побережья просто пытались осуществлять самоуправление. Однако баланс власти в регионе менялся под воздействием двух новых действующих сил, несомненно, способных послужить причиной посольства ал-Хасана ал-Ваззана. Испанцы, в надежде защитить христианство, а заодно урвать кусок от прибыльной торговли с Сахарой, захватывали города на средиземноморском берегу, облагали данью их жителей и строили крепости, чтобы установить в них свою могучую артиллерию. Уже в 903/1497 году они завладели городом Мелилья во владениях султана Феса. К 916/1510 году воспитанный пиратами Педро Наварро и другие капитаны привели под власть короля Фердинанда целую цепь прибрежных пунктов, от самого Пеньон де Велеса на западе (этот скалистый остров через пролив от Бадиса, укрепленный испанцами, по сей день оспаривают друг у друга Испания и Марокко), до Беджайи посередине и до Триполи на востоке. Столкнувшись с этим, правитель Алжира согласился платить дань Фердинанду и отдал остров, лежащий в море невдалеке от города, под испанскую крепость. А в следующем году султан Тлемсена из рода Зийанидов признал Фердинанда своим сюзереном.
Сопротивление испанцам возглавляли Арудж Барбаросса и его братья, мусульманские пираты84 из Митилены. При поддержке тунисского султана Мухаммада ибн ал-Хасана Арудж совершал приносившие богатую добычу нападения на купеческие корабли из своих баз в Ла Гулетте близ Туниса и на острове Джерба, деля добычу с султаном, и при всяком удобном случае дрался с испанцами. В 917/1511 году он отразил атаку испанцев на Джербу, нанеся христианской стороне большой урон в живой силе, и это была та самая победа, которую, как мы видели, праздновал Кансух ал-Гаури в Каире. Несомненно, такое положение дел – непрерывное наступление испанцев, капитуляция других мусульманских владетелей и успехи Аруджа – заставило султана Туниса направить посла в Каир, хотя похоже, что тот вернулся ни с чем85.
К тому времени как султан Феса послал ал-Хасана ал-Ваззана в эти края, Арудж и его брат Хайраддин совершили неудачную попытку отобрать у испанцев Беджайю – причем Арудж потерял руку в бою – и задумывали новые нападения. Мухаммад ал-Буртукали, видимо, проинструктировал своего посла не пропускать ни одного города на пути. Важной остановкой был двор Зийанидов в Тлемсене. Там ал-Ваззана принял султан Абу Абдаллах Мухаммад, дававший аудиенции только «самым важным придворным и должностным лицам». Однако дипломат из Феса также заметил, насколько были рассержены местные купцы таможенными пошлинами, которые ввел их султан сразу после того, как подчинился испанцам. Из-за этих пошлин, а также из‐за дани, которую населению пришлось платить христианам, вскоре вспыхнет восстание против преемника султана на престоле, и в итоге корсар Арудж захватит город86.
Другой непременной остановкой был Алжир. Там ал-Ваззан смог услышать все подробности о капитуляции местного властителя перед королем Фердинандом, так как квартировал вместе с человеком, который ездил послом на переговоры в Испанию. И здесь много роптали по поводу дани христианам, в особенности в общине андалусских беженцев. Через семь месяцев, после смерти короля Фердинанда в 1516 году, горожане призвали в Алжир Аруджа Барбароссу, чтобы покончить с подчинением Испании. Арудж убил их арабского правителя, объявил себя эмиром и начал чеканить монету со своим именем87. «И это стало началом правления и царствования Барбароссы», – прокомментировал ал-Ваззан88.
Фактически, как рассказывает ал-Хасан ал-Ваззан, он познакомился с Аруджем за несколько месяцев до его триумфа в Алжире. При поддержке войск султана Туниса Арудж вторично пытался отбить Беджайю, и ал-Ваззан посетил его, когда тот осаждал испанскую крепость. Атака провалилась, и Арудж разбил новый лагерь в соседнем поселении Джиджелли, где, по словам ал-Ваззана, «жители передались Барбароссе по собственной воле». Во время осады посол из Феса, похоже, пришел к какому-то соглашению с Аруджем, потому что через два года, как только они с братом укрепили свои политические позиции, принц-пират попытался заключить союз с ваттасидским султаном ради создания единого фронта против испанцев. Предпосылки для этого соглашения, должно быть, возникли в результате встречи Аруджа с ал-Ваззаном в Беджайе в 921/1515 году. Ал-Ваззан составил тогда противоречивое мнение об Арудже: он был «заносчив и груб», убивал местных магрибинских правителей, однако выставил против испанцев внушительную военную силу и проводил в отношении новых подданных умеренную налоговую политику, достойную похвалы89.
Последней дипломатической остановкой был «великий город Тунис». Как и в Каире, ал-Ваззан посещал здесь медресе, мечети, базары и бани, но по долгу службы ему полагалось находиться при дворе, так что он хорошо познакомился со сложным устройством придворного штата. На протяжении двух столетий султаны Туниса из династии Хафсидов славились благотворительностью: они покровительствовали маликитским законоведам, поощряли изучение хадисов при мечетях и в медресе, привечали ученых и людей искусства у себя при дворе. Что касается ал-Хасана ал-Ваззана, то он признавался, что, хотя от нынешнего султана Мухаммада ибн ал-Хасана он получил «немало знаков расположения», он находит, что этот правитель слишком сластолюбив, потакает своим желаниям, окружил себя рабами и рабынями, музыкантами и певцами. То обстоятельство, что в их напевах слышалось сильное влияние ал-Андалуса, кажется, не трогало нашего дипломата, рожденного в Гранаде90.