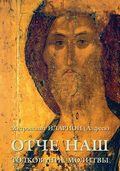митрополит Иларион (Алфеев)
Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров
Поскольку Бог есть Сущий сверхсущественно, дарует сущему бытие и производит все сущности, говорят, что это Единое Сущее многократно увеличивается благодаря появлению из Него многого сущего, причем Оно нисколько не умаляется и остается единым во множестве; соединенным, выступая вовне; и, разделяясь, – полным, по той причине, что Он сверхсущественно пребывает запредельным по отношению и ко всему сущему, и к объединяющему все исхождению вовне, и к неиссякающему излиянию Его неуменьшающихся преподаний. Но будучи един и сообщая единство и всякой части, и целому, и единому, и множеству, Он сверхсущественно существует в равной степени как Единое, не представляющее Собой ни часть множества, ни многочастное целое. И при том Он не есть единое, к единому непричастен и единого не имеет. Далеко от этого Единое, превышающее единое; Единое для всего сущего; неделимое множество; ненаполняемое переполнение, всякое единое, множество приводящее, совершенствующее и содержащее. Эти общие и соединенные разделения или благолепные исхождения вовне всецелой божественности мы постараемся по мере сил воспеть, руководствуясь божественными именами, которые являют ее в Речениях <…>[424].
Прежде чем приступить к последовательному истолкованию смысла имен Божиих, встречающихся в Писании, Ареопагит в 3-й главе трактата излагает учение о молитве как умственном призывании Святой Троицы. Это учение имеет прямое отношение к основной теме трактата, поскольку божественные имена рассматриваются Ареопагитом не как объекты теоретического философского исследования, но в первую очередь как объекты молитвенного созерцания. Имена нужны для того, чтобы вывести ум человека за пределы имен – туда, где безымянный Бог встречается с человеком лицом к лицу. При этом Ареопагит подчеркивает, что молитва нужна не для того, чтобы низвести Бога к человеку, но для того, чтобы возвести человека к Богу:
Устремим же себя молитвами, чтобы взойти в высочайшую высь к божественным и благим лучам, как бы постоянно перехватывая руками ярко светящуюся, свисающую с неба и достигающую досюда цепь и думая, что мы притягиваем к себе ее, на деле же не ее, пребывающую и вверху и внизу, стягивая вниз, но поднимая к высочайшим сияниям многосветлых лучей себя. Или как бы находясь в корабле, схватившись за канаты, прикрепленные к некой скале и протянутые нам, чтобы мы причалили, мы бы притягивали к себе не скалу, а на деле самих себя и корабль – к скале. Как и напротив, если бы кто-то, находящийся в корабле, оттолкнул лежащий на берегу камень, он ничего не причинил бы неподвижному камню, но себя самого удалил бы от него, и чем сильнее толкнул бы его, тем сильнее оттолкнул бы от него себя. Почему и подобает всякое дело, а особенно богословие, начинать молитвой, – не для того, чтобы вездесущую и нигде не сущую Силу привлечь к себе, но чтобы Ей вручить и с Ней соединить самих себя[425].
Лейтмотивом рассуждений Ареопагита в главах 4–12 является относительность имен Божиих: эти имена не только взаимозаменяемы, но и не всегда необходимы, ибо человек может общаться с Богом и без их помощи. Как и Великие Каппадокийцы, Ареопагит делает различие между внешней формой слова (слогами, буквами, звуками и т. д.) и его содержанием: одно и то же содержание может быть вложено в разные внешние формы. Внешняя форма слова относится к реальности чувственного мира, тогда как содержание слова выходит за пределы чувственного мира. Что же касается имен Божиих, то в них не только внешняя форма, но и внутреннее содержание не адекватно стоящей за ними Реальности. Относительно внешней формы имен Божиих Ареопагит пишет:
<…> Неразумно и глупо, мне кажется, обращать внимание на букву, а не на смысл речи. Это не свойственно людям, желающим уразуметь божественное, но присуще лишь тем, кто воспринимает одни звуки, а их смысл в свои уши для восприятия извне не допускает и знать не желает, что такое-то выражение означает и как его можно прояснить с помощью других равнозначных и более выразительных выражений – людям, пристрастным к бессмысленным знакам и буквам, непонятным слогам и словам, не доходящим до разума их душ, но лишь звучащим снаружи, в пространстве между губами и ушами. Как будто нельзя число четыре обозначать как дважды два, прямые линии как линии без изгибов, родину как отечество, и что-нибудь другое иначе, когда одно и то же может быть выражено различными словами. По правде говоря, подобает знать, что буквами, слогами, речью, знаками и словами мы пользуемся ради чувств. А когда наша душа движима умственными энергиями к умозрительному, то вместе с чувственным становятся излишни и чувства, – равно как и умственные силы, когда душа, благодаря непостижимому единению делаясь боговидной, устремляется к лучам неприступного света восприятием без участия глаз[426].
Мы не имеем возможности последовательно рассмотреть толкование Дионисием Ареопагитом всех имен Божиих, в чем, впрочем, нет необходимости для понимания его богословия имени. Остановимся, однако, на понимании Ареопагитом имени «Сущий», занимающего, как мы помним, центральное место в Ветхом Завете. В силу своей укорененности в эллинистической традиции Ареопагит толкует имя «Сущий» целиком исходя из того смысла, который оно имеет в своем греческом варианте, т. е. он толкует не еврейское, а греческое ό ών, поэтому от него не следует ожидать глубокого проникновения в ветхозаветное богословие имени. Все его толкование вращается вокруг понятия «сущности» (ουσία), которое рассматривается им как философская категория, применимая к Богу лишь постольку, поскольку сущность Божия «выступает» вовне. Согласно Ареопагиту, Бог называется «Сущим» потому, что, будучи выше всякой сущности, Он является источником всякой сущности, всего существующего:
<…> Цель слова не в том, чтобы разъяснить, каким образом сверхсущественная Сущность сверхсущественна, так как это невыразимо, непознаваемо, совершенно необъяснимо и превосходит самое единение, но – в том, чтобы воспеть творящее сущность выступление богоначального Начала всякой сущности во все сущее. Ведь божественное имя Добро, разъясняющее все выступления всеобщей Причины, распространяется и на сущее и на не-сущее и превышает и сущее и не-сущее. И имя Сущий распространяется на все сущее и превышает сущее. И имя Жизнь распространяется на все живое и превышает живое. И имя Премудрость распространяется на все мыслящее, разумное и воспринимаемое чувствами и превышает все это <…> Сущий является сверхсущественной субстанциальной Причиной всякого возможного бытия, Творцом сущего, существования, субстанции, сущности, природы, начала, и Мерой веков, и Реальностью времен, и Вечностью сущих, и Временем возникающих, и Бытием всего, что только бывает, и Рождением всего, что только появляется. Из Сущего – и вечность, и сущность, и сущее, и время, и возникновение, и возникающее, сущее в сущих и каким бы то ни было образом возможное и наставшее. И существует Сущий Бог ведь не как-то иначе, но просто и неопределенно, все бытие содержа в Себе и предимея. Потому Он и называется «Царем веков»[427], что в Нем и около Него – все, что относится к бытию, к сущему и к наставшему. Его же Самого не было, не будет и не бывало, Он не возникал и не возникнет, и – более того – Его нет. Но Он Сам представляет Собою бытие для сущих; и не только сущие, но и само бытие сущих – от предвечно Сущего, ибо Он Сам есть Век веков, пребывающий до веков[428].
Последовательный апофатизм приводит Ареопагита к парадоксальному утверждению о том, что Бога «не было и нет». Такое утверждение было бы немыслимо на языке Библии (вернее, оно было бы воспринято как богохульство), поскольку библейское понимание соответствия между словом-именем и стоящей за ним реальности исключало бы возможность подобного рода утверждений. На языке спекулятивной философии, которым пользуется Ареопагит, это утверждение, напротив, выглядит как вполне убедительное завершение логической цепи отрицаний всего, что не есть Бог. Если Бог не есть «бытие» и «сущность» в человеческом понимании этих терминов, которые приспособлены только к описанию реальности тварного мира, а не к описанию божественного бытия, то, следовательно, производные от них глаголы «быть» и «существовать» тоже не приспособлены для описания бытия и существования Бога, Который «предимеет и сверх-имеет предбытие и сверхбытие»[429]: как термин «бытие», так и термин «небытие» равно удалены от Бога, а потому сказать «Бог есть» все равно, что сказать «Бога нет».

Греческая рукопись IX века, содержащая текст сочинений Дионисия Ареопагита
Мы видим, что Ареопагит идет по тому же пути, по которому шел Григорий Нисский в своей полемике против Евномия, однако доходит до предела в стремлении доказать относительный характер человеческого языка. При этом он широко пользуется инструментарием греческой спекулятивной философии. Впрочем, было бы большой ошибкой видеть в ареопагитском трактате «О божественных именах» попытку противопоставить рационализм греческой философии мистицизму библейского благовестия. Культурный и языковой контекст Дионисия, так же как и контекст других греческих Отцов, резко отличался от библейского, однако его богословское видение глубоко мистично: это отнюдь не голый философский рационализм, поставленный на службу христианству. Напротив, в описываемом Дионисием процессе восхождения к Богу спекулятивное мышление постепенно уступает место мистическому созерцанию[430].
Учение Дионисия Ареопагита о божественных именах тесно связано с его гносеологией, а она представляет собой классический образец христианского мистицизма. Согласно Ареопагиту, путь богопознания есть «путь отвлечения и отрицания, путь упрощения и умолкания»; Бог познается только в покое незнания, которое есть сверх-знание[431]. Мистическое незнание есть не что иное как экстаз – исступление, исхождение человека из самого себя и вступление в божественную реальность, исхождение из сферы рационального и вступление в сферу непостижимого:
<…> Следует задаться вопросом, как мы познаем Бога, не относящегося ни к умственному, ни к чувственному, ни вообще к сущему. Пожалуй, правильно будет сказать, что мы познаем Бога не из Его природы, ибо она непознаваема и превосходит всякие смысл и ум, но из устройства всего сущего, ибо это – Его произведение, хранящее некие образы и подобия Его божественных прообразов; пускаясь далее в отрицание всего, путем и чином, по мере сил, выходя за пределы всего, мы восходим к превосходящей все Причине всего. Так что Бог познается и во всем и вне всего. И разумом Бог познается, и неразумием. И Ему свойственны и разумение, и смысл, и знание, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не называем. И Он не есть что-то из сущих, и ни в чем из сущих не познается. И Он есть «все во всем» и ничто ни в чем, и от всего всеми Он познается, и никем ни из чего. И то ведь говорим мы о Боге правильно, что от всех сущих, чьей причиной Он является, соответствующим образом Он воспевается. И существует также божественнейшее познание Бога, осуществляемое через незнание путем превосходящего ум единения, когда ум, отступив от всего сущего, оставив затем и самого себя, соединившись с пресветлыми лучами, оттуда и там освещается недоступной исследованию глубиной Премудрости. Хотя, как я сказал, подобает Ее познавать и во всем, ибо она, согласно Речениям, создательница всего, постоянно всем управляющая, и причина несокрушимого соответствия и порядка, постоянно соединяющая завершения первых с началом вторых, прекрасно творящая из всего единую симфонию и гармонию[432].
Исступление (εκστασις) человека из самого себя так же необходимо для встречи с Богом, как и исхождение (πρόοδος) Бога из Своей сущности. Сама мистическая встреча с Богом становится, таким образом, плодом синергии, совместного действия человека и Бога, соединяющихся друг с другом в гармоничном единстве. При этом, в отличие от неоплатонического экстаза, встреча человека с Богом происходит на личном уровне – это встреча «лицом к лицу», не предполагающая растворения личности человека в Боге. И человек приобщается не к частице Божества, а ко всему Богу целиком, поскольку Бог не разделяется на части.
В процессе мистического восхождения к Богу имена Божии имеют сугубо вспомогательное значение: они служат лишь трамплином для ума, который благодаря им должен разогнаться и выйти в свободный полет к вершинам богопознания. В процессе полета ум все более отрешается от всех земных понятий, будь то катафатических или апофатических. В конце концов, достигнув наивысшей доступной для него меры совлечения и незнания, он вступает туда, где имена Божии становятся не нужны, поскольку человек, выйдя за пределы имен, слов и понятий, соединяется с Тем, «Кто выше всякого имени, всякого слова и знания»[433].
Трактат «О божественных именах» заканчивается торжественным утверждением полной неадекватности имен Божиих тому, что они призваны выразить:
<…> Все превышающая Божественность, воспеваемая как Единица и как Троица, не является ни единицей, ни троицей в нашем или кого-нибудь другого из сущих понимании. Но мы называем и Троицей, и Единицей превышающую всякое имя и сверхсущественную по отношению к сущим Божественность, чтобы по-настоящему воспеть Ее сверхобъединенность и богородность. Ведь никакая единица, никакая троица, никакое число, никакое единство, ни способность рождать, ни что-либо другое из сущего, или кому-нибудь из сущих понятное не выводит из все превышающей, – и слово, и ум, – сокровенности сверх всего сверхсущественно сверхсущую Сверхбожественность, и нет для Нее ни имени, ни слова, потому что Она – в недоступной запредельности <…> Собрав вместе эти умопостигаемые имена Божии, мы открыли, насколько было возможно, что они далеки не только от точности (воистину это могут сказать ведь и ангелы!), но и от песнопений как ангелов (а низшие из ангелов выше самых лучших наших богословов), так и самих богословов и их последователей <…>[434]
В этом тексте, так же как и в других, приведенных выше, Дионисий Ареопагит сохраняет терминологическую близость к Платону, доходящую до буквальных заимствований. Достаточно вспомнить рассуждения Парменида о Едином, которое «никак не причастно бытию» и потому «никоим образом не существует», а следовательно, «не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия, ни мнения»[435], чтобы удостовериться в этой близости. В то же время нельзя не заметить, что, заимствуя из платонической традиции терминологию, Ареопагит вкладывает в нее принципиально иное содержание: Единое у него не абстрактная философская категория, но реальное живое существо – Бог, единый в трех Лицах, Источник всякого бытия и существования. Еще раз подчеркнем, что Дионисий не был «христианским платоником»: он лишь использовал старые мехи платонизма, чтобы влить в них новое вино христианского благовестия.
Значение Дионисия Ареопагита в развитии учения об именах Божиих заключается, на наш взгляд, прежде всего в том, что он довел до логического совершенства традиционную для восточного христианства антиномию именуемости и неименуемости Бога. Кроме того, хотя тема имен Божиих достаточно подробно разрабатывалась предшествующими авторами, в частности, Великими Каппадокийцами, никто до Дионисия Ареопагита не сумел столь ярко показать ее значимость для мистической жизни христианина. Отметим, что и после Дионисия никто из восточных Отцов не сказал ничего принципиально нового на данную тему, и его трактат на протяжении многих столетий на Востоке, а затем и на Западе считался нормативным ее изложением. Отметим также, что учение Дионисия было воспринято восточно-христианской литургической традицией и стало неотъемлемой частью православного богослужения.
Иконопочитатели. Преподобный Феодор Студит
В поздневизантийском богословии тема божественных имен специально не рассматривалась. Говоря о божественных именах, авторы VIII–XIV веков в основном следовали учению, разработанному Великими Каппадокийцами и Ареопагитом. Так например, преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 655-ок. 750), говоря об именах Божиих в «Точном изложении православной веры»[436], воспроизводит учение о неименуемости Божества, о значении имени «Сущий», о божественном соединении и разделении, о различии между именами апофатическими (указывающими на то, чем Бог не является) и катафатическими (указывающими на Его деятельность, но не на Его сущность), об антропоморфических именах Божиих и т. д. Все эти темы нам уже хорошо знакомы по творениям Ареопагита, на которые Дамаскин прямо ссылается.
Однако для истории почитания имени Божия имеют большое значение два богословских спора поздневизантийской эпохи – по вопросу об иконопочитании (VIII–IX вв.) и по вопросу о сущности и энергиях Божиих (XIV в.). Оба спора затрагивают ключевые аспекты православной традиции и в той или иной степени соприкасаются с темой почитания имени Божия. Остановимся сначала на тех моментах византийского богословия иконы, которые связаны с интересующей нас темой.
В ходе борьбы за иконопочитание был поставлен вопрос о том, в какой степени невидимый, неизреченный, непостижимый и неизобразимый Бог может быть изобразим при помощи красок. Иконоборцы, ссылаясь на ветхозаветные запреты, утверждали, что Бога вообще нельзя изображать; коль скоро Иисус Христос является воплотившимся Богом, запрет на изображения автоматически распространяется и на Его изображения. Иконопочитатели соглашались с тем, что «бестелесный и не имеющий формы Бог никогда никоим образом не был изображаем», однако считали, что после того, как Бог явился во плоти, «видимая сторона Бога» может быть изображаема[437].
Отсюда вытекает вопрос о природе образа (изображения) и о соотношении между образом и его прототипом (первообразом). Иконопочитатели[438] определяли образ как «подобие, выражающее первообраз и вместе с тем имеющее и некоторое в отношении к нему различие»[439]. Образ есть «подобие и образец и оттиск чего-либо, показывающий собою то, что изображается», однако образ «не во всех отношениях подобен первообразу»[440]. Связь между образом и первообразом, согласно Иоанну Дамаскину, обеспечивается тем, что образ носит имя первообраза: «Божественная благодать сообщается состоящим из вещества предметам, так как они носят имена тех, кто [на них] изображается»[441]. Имя первообраза освящает образ, превращает его в икону: «Повинуясь церковному преданию, допусти поклонение иконам, освящаемым именем Бога и друзей Божиих и по причине этого осеняемым благодатью Божественного Духа»[442].
Мы видим, что имя воспринимается иконопочитателями как некая скрепа, некое связующее звено между образом и первообразом. Имя есть «символ» в исконном значении этого греческого термина, указывающего на связь между образом и первообразом, знаком и обозначаемым, именем и именуемым. Не будучи тождественны по сущности, образ и первообраз, однако, тождественны по имени, утверждает преподобный Феодор Студит (759–826):
Тот крест, на котором был вознесен Христос, называется в точном смысле крестом – и по значению наименования, и по природе оживотворенного древа. Что же касается его изображения, то оно называется крестом только по значению наименования, а не по природе оживотворенного древа; ибо это изображение состоит или из какого-нибудь дерева, или из золота, или из серебра, или из камня, или из какого-нибудь другого материального состава. И оно получает участие в имени первообраза, а равно и в его почитании и поклонении; по природе же оно совершенно ему чуждо <…> Невозможно указать какого-либо такого обозначения первообраза, которым бы не называлось и подобие. Таково же учение относительно Христа и Его изображения <…> В отношении имени изображение сходно с первообразом, равно как и в отношении чести и поклонения, по природе же совершенно обособлено от него. Поэтому какими именами назван Иисус Христос, такими же называется и Его изображение. Если назовем Христа Господом славы, то и Его изображение равным образом называется Господом славы. Если назовем Христа Божиею силою и Божиею премудростию, то и Его изображение точно таким же образом называется Божиею силою и Божиею премудростию <…> И какими бы именами ни обозначался Спаситель в боговдохновенном Писании, [каждым из них] может быть названо и Его изображение[443].
Не только изображение можно называть именем первообраза, но и «первообраз можно называть по имени изображения»[444]. Однако употребление одного имени по отношению и к образу и к первообразу возможно именно потому, что образ и первообраз онтологически отличны один от другого: это две реальности, не имеющие природного тождества, а потому не сравнимые и не сопоставимые. Христом может быть назван и Сам Христос, и Его изображение, «и однако не два Христа, так как одно от другого отличается не общностью имен, но природой»[445]. Не ведет ли наличие разных реальностей, обозначаемых одним именем, например, именем Господа или именем Христа, к утрате веры в единого Бога и многобожию? Отнюдь нет, отвечает Феодор:
Разве не Господь [Бог] Отец? Разве не Господь Бог Сын? Разве не Господь Дух Святой? Разве не Бог, Бог и Бог? Да, конечно. Но разве, поэтому, – три Бога и Господа? Это нечестиво. Один Бог и Господь. Также, любезный, следует понимать и относительно икон: хотя изображений по числу и много, но один Христос, а не многие; также и Господь один и тот же, а не различные. Пойми же, – как там единое название «Бог» и «Господь» не препятствует природе разделяться на три лица, так и здесь призывание одного имени [возводит] многие образы к единому виду <…>[446]
В соответствии с таким подходом византийская иконописная практика предполагала наличие надписи на любом иконном изображении. В Византии не было специального чина освящения икон: моментом превращения изображения в икону считалось нанесение на нее соответствующей надписи. Это, разумеется, не означало, что всякое изображение, надписанное именем Божиим или именем святого, автоматически становилось иконой: необходимо было соблюсти и другие условия, из которых главным являлась верность художника иконописному канону. Но без надписи икона, изготовленная по всем правилам иконописного искусства, не воспринималась как икона.
Характерно, что византийские иконоборцы обращали особое внимание на отсутствие в церковной практике специального чина освящения икон, однако делали из этого неверный вывод. «Нечестивое учреждение лжеименных икон, – говорили они, – не имеет для себя основания ни в Христовом, ни в апостольском, ни в отеческом предании; нет также и священной молитвы, освящающей их, чтобы сделать их из обыкновенных предметов святыми; но постоянно остаются они вещами обыкновенными». На это иконопочитатели отвечали:
Над многими из таких предметов, которые мы признаем святыми, не читается священная молитва, потому что они по самому имени своему полны святости и благодати <…> Таким образом, и самый образ животворящего креста, хотя на освящение его и не полагается особой молитвы, считается нами достойным почитания и служит достаточным для нас средством к получению освящения·<…> То же самое и относительно иконы; обозначая ее известным именем, мы относим честь ее к первообразу; целуя ее и с почтением поклоняясь ей, мы получаем освящение[447].
Если имя делает изображение святым, то чему следует поклоняться, спрашивали иконоборцы, – самому изображению или надписи? На этот вопрос преподобный Феодор Студит отвечал в том смысле, что в поклонении надпись неотделима от изображения, так же как имя не отделяется от предмета:
Этот вопрос подобен тому, как если бы кто спросил, следует ли поклоняться Евангелию или наименованию, [написанному] на нем, образу креста или тому, что на нем написано? Я прибавил бы относительно людей, [следует ли почитать] известного человека или его имя, например, Павла и Петра, и каждого из отдельных предметов одного и того же рода. Разве это не неразумно, чтобы не сказать – смешно? И что из видимого глазами лишено имени? И каким образом может быть отделено то, что названо [известным именем], от своего собственного наименования, чтобы одному из них мы воздавали поклонение, а другое лишали [поклонения]? Эти вещи предполагают друг друга: имя есть имя того, что им называется, и как бы некоторый естественный образ предмета, который носит это имя: в них единство поклонения нераздельно[448].
В приведенном тексте имя названо «образом», что само по себе свидетельствует о значении, придаваемом имени иконопочитателями. Отождествление образа-иконы с именем встречается в текстах иконопочитателей неоднократно. Так, преподобный Иоанн Дамаскин приводит слова Стефана Вострийского: «Так как икона есть имя и подобие того, кто на ней нарисован, то посему с помощью как письменных знаков, так и изображений мы всегда вспоминаем о страданиях Господа и святых пророков, которые записаны в Законе и Евангелиях»[449]. Иконопочитатели ссылались также на слова святого Иоанна Златоуста об изображениях Мелетия Антиохийского, которые жители Антиохии начертывали на перстнях, печатях, камнях, чашах, стенах комнаты, везде, «чтобы не только слышать святое имя, но и везде видеть его»[450].
По учению иконопочитателей, существует два вида изображений – «через вписываемое в книги слово» и «через чувственное созерцание»[451]. К первому виду относятся словесные символы божественной реальности, ко второму – ее видимые изображения. Первые освящают зрение, вторые – уста и слух. В деяниях Константинопольского Собора 842 года говорится: «Вечная память верующим, возвещающим и благовествующим, что одинаковую приносит пользу как посредством слова возвещение, так и посредством икон истины утверждение. Как очи зрящих освящаются честными иконами, так и уста освящаются словами»[452]. Имена Божии как словесные символы Бога, согласно данной классификации, должны относиться к первому роду изображений.
Если имя, согласно преподобному Феодору Студиту, является образом своего носителя, если единое поклонение воздается имени и носителю имени, если имя при поклонении неотделимо от своего носителя, следовательно, имя Божие, будучи образом Бога, является достопоклоняемым, как и Сам Бог. Имя Божие в данном случае приравнивается к образу, кресту и другим священным символам. Как пишет С. Троицкий, и имя Божие, и икона суть «одинаковые по своему значению звенья в созданной религиозной мыслью цепи символов, означающих Того, Кто выше и имени, и иконы, выше всех возможных символов»[453]. Но понятие «символа» многогранно и многозначно: символ не просто обозначает некую реальность, но являет ее, вводит в соприкосновению с нею.
Как мы видели, поклонение, воздаваемое имени Божию, восходит, согласно преподобному Феодору Студиту, к Самому Богу как Первообразу этого имени. Точно так же поклонение, воздаваемое образу Христа, восходит к Первообразу:
<…> Когда поклонение воздается Христу, то и Его изображению воздается поклонение, как находящемуся в Христе; и когда поклонение воздается его изображению, то поклонение воздается и Христу, ибо в нем [то есть в изображении] поклоняемый [есть именно Христос]. И если Христу, бесспорно, поклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, то ясно, что всякое колено небесных, земных и преисподних несомненно [поклоняется] и Его изображению, как находящемуся в Христе. Таким образом, сходство первообраза и изображения указывается только в отношении имени, равно [утверждается] тождество поклонения, а не вещества [изображения и природы первообраза], которое и не может получить участия в поклонении, хотя изображаемый и в нем [то есть в веществе] является поклоняемым»[454].
В приведенном тексте содержится аллюзия на слова апостола Павла: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних»[455]. Поскольку в словах апостола речь идет о поклонении имени Иисуса и эти слова приведены преподобным Феодором в доказательство того, что Христу и образу Христа воздается единое поклонение, у нас не остается сомнений в том, что Феодор считал имя Иисуса заслуживающим поклонения наряду с образом Иисуса и Самим Иисусом. Отметим, впрочем, что иконопочитатели делали различие между поклонением (προσκύνησις) и служением (λατρεία): первое может быть воздаваемо как Богу, так и Его священным символам (включая иконы и имена), второе воздается только Богу.
Говоря об имени «Иисус», преподобный Феодор подчеркивает, что, будучи употреблено применительно ко Христу, оно отнюдь не идентично тому же имени применительно к другим Иисусам. Будучи человеческим именем Христа, оно указывает на Его божественное естество:
<…> Данное новорожденному Младенцу, согласно предсказанию ангела, имя Иисус, имеющее значение Спасителя, есть показание Его божественной природы. И пусть никто из богоборцев не пустословит, говоря, будто оно, как сходное с именем Иисуса Навина, дано не Богу Слову, но человеку, имеющему сходство с тем [Навином]. Ибо хотя многие называются господами, но они не по природе таковы, равно как и богами называются, но также не по природе: по природе только один Господь и один Бог истинный. Подобно сему, и многие носят имя Иисус, но один Спаситель всех – Иисус Христос[456].
Если сопоставить данный текст со сказанным выше о том, что «вещество» (материя) иконы не участвует в поклонении, тогда как сама икона участвует, можно заключить, что в имени Иисуса Христа «вещество» имени, – т. е. буквы и звуки, составляющие его материальную основу, – само по себе не достопоклоняемо: заслуживающим поклонения является имя, но не материя имени (вспомним различие между внешней оболочкой имени и его внутренним содержанием у Григория Нисского). Звуки и буквы имени «Иисус», в том случае, когда они используются для обозначения другого лица (Иисуса Навина), не являются образом Христовым, подобно тому как иконная доска не является иконой Христа, если используется для изображения кого-либо другого. Имя «Иисус» является образом Спасителя только в том случае, если употреблено применительно к Иисусу Христу.
Несколько в ином ключе тема имени «Иисус» развивается у Иоанна Дамаскина. На вопрос о том, когда Бог Слово был назван Иисусом Христом, он отвечает:
Ум соединился с Богом Словом, не прежде воплощения от Девы, и не с того времени был назван Христом, как некоторые ложно говорят. Это нелепость пустых речей Оригена, который ввел догмат о предсуществовании душ[457]. Мы же утверждаем, что Сын и Слово сделалось Христом с тех пор как вселилось во чреве Святой Приснодевы и, не изменившись, сделалось плотью, и плоть была помазана Божеством. Ибо это – помазание человечества, как говорит Григорий Богослов[458]. А также и святейший Кирилл Александрийский, писав к царю Феодосию, сказал следующее: «Ибо я с своей стороны утверждаю, что не должны быть называемы Христом Иисусом ни Слово, Которое рождено от Бога без человечества, ни, в свою очередь, храм, рожденный от жены, если он не соединен со Словом. Ибо Слово, Которое от Бога, таинственным образом возымевшее сообщение с человечеством согласно с обусловленным целями Домостроительства соединением, мыслится Христом»[459]. И к царицам он так [писал]: «Некоторые говорят, что имя Христос приличествует даже взятому в отдельности и особо – Самому по Себе мыслимому и существующему, рожденному от Бога Отца Слову. Мы же не так научены думать или говорить; ибо когда Слово сделалось плотию, тогда Оно, – говорим, – было названо Христом Иисусом. Ибо, так как Оно было помазано от Бога и Отца елеем радости или Духом, то посему, конечно, и называется Христом. А что помазание было совершено в человечестве, никто из тех, которые привыкли правильно думать, не мог бы усомниться»[460]. А также и всеславный Афанасий в слове о спасительном пришествии [Христа] говорит почти так: «Бог, Который существовал прежде, до пришествия во плоти, не был человеком, но был Богом у Бога, будучи невидимым и бесстрастным; когда же Он сделался человеком, то по причине плоти принял Себе имя Христос, так как этому имени сопутствует страсть, а также смерть»[461].
Таким образом, имя «Иисус» мыслится как имя Бога Слова в воплощении. Однако Иоанн Дамаскин отнюдь не отрицает того, что это имя относится равно и к божеству, и к человечеству Христа. Имя Иисус Христос принадлежит не человеку Иисусу, отличному от Бога Слова, но Самому Богу Слову, воплотившемуся ради спасения мира.