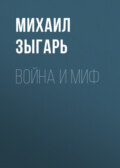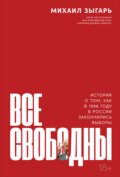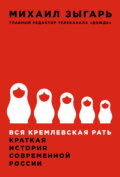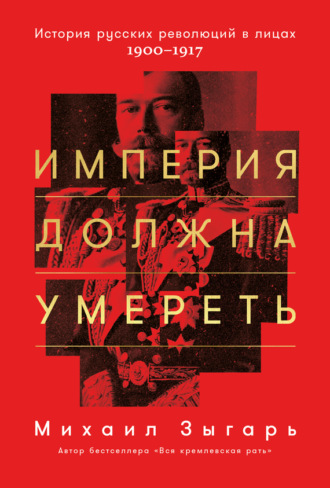
Михаил Зыгарь
Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917
Глава 3
В которой евреи выходят на тропу войны: Михаил Гоц и Григорий Гершуни создают самую мощную оппозиционную партию в России
Новогоднее пожелание
31 декабря, в канун нового, 1900 года, в квартире у 29-летнего минского фармацевта Григория Гершуни вечеринка. На праздник приходят его друзья-революционеры. Заглядывает и пожилая соседка – 56-летняя Екатерина Брешко-Брешковская по кличке Бабушка, легендарная диссидентка, большой авторитет для всех присутствующих.
Молодые люди спорят: может ли такое случиться, что революционеры снова, как в былые годы, обратятся к террору? Гершуни спрашивает Бабушку – и ее ответ удивляет многих: «И мы в свое время мучились тем же вопросом и говорили евангельскими словами "Да минует нас чаша сия". Вот и ныне приходится выстрадать ответ. Опять идем мы к срыву в бездну, опять мы вглядываемся в нее, а бездна вглядывается в нас. Это значит, террор опять становится неизбежным». Гершуни полностью с ней согласен, он тоже считает, что снова пришло время убивать.
На новогодней вечеринке у всех приподнятое настроение, но в конце праздника Бабушка отводит Гершуни в сторонку и говорит: «С такими рвущимися наружу мыслями в голове ты чего ждешь? Чтобы тебя изъяли из жизни и замучили в Петропавловке или на каторжных рудниках? Надо менять паспорт, надо менять место, надо нырнуть в подполье. И не очень медлить!» После этого разговора Бабушка навсегда уезжает из Минска – ей не привыкать, она путешествует по стране c подложными документами уже много лет.
Наследник чайной империи
Несколько недель спустя, в конце января 1901 года на поезд в Одессе садится богатый молодой еврей. Ему 36 лет, и он один из самых знаменитых людей города – наследник богатейшей российской династии производителей чая, очень эффективный топ-менеджер семейной корпорации и глава ее одесского филиала. Зовут его Михаил Гоц, и он едет в Париж.
Михаил родился в Москве – среди московских миллионеров есть не только старообрядцы, но и евреи. Чайный рынок контролируют Рафаил Гоц и его шурин Давид Высоцкий. Условия ведения бизнеса для евреев еще более жесткие, чем для староверов, но Высоцкий и Гоц достигли невероятных высот: в начале ХХ века их компания обладала капитализацией в 10 миллионов рублей и годовым оборотом в 45 миллионов[15]; пройдет всего несколько лет и будут открыты филиалы в Нью-Йорке и Лондоне.
Высоцкий и Гоц – настоящие еврейские знаменитости. В конце XIX века в Москве ходит анекдот. «Еврей из отдаленного местечка приезжает в Москву, родственник его водит по городу и приговаривает: "Это вот магазин Высоцкого и Гоца, а это – фабрика Высоцкого и Гоца, а вот это – контора Высоцкого и Гоца". Оказавшись на Красной площади, приезжий спрашивает, показывая на памятник Минину и Пожарскому: "А это кто?" – "Как кто? Это и есть Высоцкий и Гоц". – "А что за цифры под ними: 1, 6, 1 и 3?" – "Наверное, номер телефона"».
Как это произошло и в купеческих семьях, золотая молодежь, третье поколение московских миллионеров (основателем династии был дед Михаила Гоца Вульф Высоцкий), не оправдала надежды стариков. Племянник Давида Высоцкого и сын Рафаила Гоца, Михаил Гоц увлекся не бизнесом и даже, в отличие от Морозова или Мамонтова, не театром – в 18 лет (в 1884 году) он вступил в подпольный кружок революционеров. Члены кружка собирались в библиотеке, в которой работал бывший одноклассник Гоца Сергей Зубатов. В 1886 году в библиотеку ворвалась полиция. Облава закончилась для Гоца тяжелой десятилетней ссылкой в Сибирь, где он едва не погиб. Однако сейчас все это в прошлом, и наследник чайной империи занимается семейным бизнесом в Одессе, поскольку приезжать в столицы ему запрещено.
После каторги у Гоца очень слабое здоровье, и семья уговаривает его лечиться во Франции. Однако больной планирует увидеться не только с врачами: из Парижа пришла новость о том, что легендарный революционер Петр Лавров при смерти. Гоц очень хочет познакомиться с кумиром своей юности, но не успевает – опаздывает даже на его похороны.
Старая партия
Похороны Лаврова становятся съездом народников – некогда грандиозного движения, которое во второй половине XIX века власть объявила главным врагом Российской империи. Основу движения составляли интеллигенты, считавшие своим долгом «ходить в народ»: просвещать необразованные сословия, то есть в первую очередь крестьян, рассказывать им об их правах и о том, что единственный выход – это революция. Одной из постоянных тем бесед был неминуемый «черный передел» – заветный день, когда вся земля будет отнята у дворян и роздана крестьянам. Народники создавали свои кружки в столице и провинции. Они первыми начали заниматься политическим террором – убийцы Александра II состояли в мощной тайной организации под названием «Народная воля». В кружки народников входили все звезды российской несистемной оппозиции XIX века: и идеолог анархизма Михаил Бакунин, и демонический убийца Сергей Нечаев, и князь-анархист Петр Кропоткин, и первый марксист России Георгий Плеханов, и Бабушка Брешко-Брешковская.
Но во время правления Александра III народничество пошло на спад. Все террористические группировки были разгромлены, пропаганда среди крестьян ни к чему так и не привела. Народники увлеклись «теорией малых дел» – работой на местах, которая могла бы облегчить жизнь крестьян. По сути, народники почти прекратили политическую деятельность. Бывшие лидеры уехали за границу: Петр Лавров – в Париж в 1870 году, Петр Кропоткин – в Лондон в 1876 году, Георгий Плеханов – в Швейцарию в 1880-м. Активной работой в России продолжила заниматься только легендарная Брешко-Брешковская. Она треть жизни провела на каторге и в ссылке, вышла по амнистии в год коронации Николая II и начала ездить по деревням и агитировать крестьян.
К началу ХХ века от движения народников почти ничего не осталось: подпольные кружки разрознены и почти не связаны друг с другом. Несмотря на, казалось бы, тотальную неудачу, народников безгранично уважает большая часть молодого поколения революционеров.
Попав в Париж, Гоц знакомится с эмигрировавшими туда народниками – его принимают радушно, все-таки богатый наследник. И он загорается идеей объединить подпольные кружки российских революционеров, вдохнуть жизнь в зачахшую оппозиционную партию. Парижская квартира Гоца превращается в популярное место встреч для народников. Проведя во Франции почти год, он бросает семейный бизнес – но пока никакого успеха на новом революционном поприще не добивается.
Психологическая дуэль
Как раз в это время, в июне 1900 года, в Минске полиция устраивает массовую облаву: находит подпольную типографию и задерживает всю местную ячейку революционеров. Арестовывают и ее руководителя, фармацевта Григория Гершуни. Его отправляют в Москву на допрос к тому самому Сергею Зубатову, руководителю московской тайной полиции, самому странному силовику в Российской империи.
Зубатов начинает с арестованным многодневную игру. Агентурных данных, в том числе о связях с Бабушкой, достаточно, чтобы отправить Гершуни в Сибирь, но Зубатову интересен этот молодой революционер, и он берется его перевоспитать.
В этот момент Зубатову 36 лет. У него есть собственный метод работы с «политическими»: он не столько сыщик, сколько проповедник, главный романтик на службе у государства.
В детстве Зубатов увлекался идеей революции, даже создал в гимназии свой кружок, где они с друзьями читали Маркса, Писарева и Чернышевского. Когда Зубатову было 20, о его увлечении узнал отец и настоял, чтобы тот прекратил обучение. Начитанный юноша пошел работать библиотекарем и обнаружил в хранилищах огромное количество запрещенных книг. Он стал охотно выдавать эту литературу читателям. Так его библиотека стала центром подпольной жизни, а читателями оказались молодые революционеры – в том числе наследник чайной империи Михаил Гоц. Они подружились, и поначалу, вспоминает Гоц, Зубатов всерьез и искренне относился к своему кружку. Но потом к Зубатову пришла полиция. На первом же допросе он узнал, что друзья-революционеры вовсе ему не доверяли и использовали его библиотеку «втемную» для подпольных собраний, на которые его не звали. Зубатов обиженно заявил, что понятия не имел, кем были его читатели. И предложил полиции свою помощь.
Следствие продолжалось несколько лет. Михаила Гоца и его друзей по кружку, молодых столичных образованных евреев, которые собирались в библиотеке, читали запрещенные книги и вели смелые разговоры – и ничего более, – приговорили к десяти годам ссылки на Колыме.
Когда революционеры объявили Зубатова провокатором и начали на него охоту, он вышел из подполья и стал штатным сотрудником полиции. Карьера его была головокружительной – уже через семь лет он дослужился до начальника московской тайной полиции.
Идейный государственник, Зубатов не жалеет времени на долгие проповеди собственным подчиненным (которых, кстати, беспокоит тот факт, что ими управляет гражданский, а не офицер): «Без царя не может быть России, счастье и величие России – в ее государях и их работе. Возьмите историю. Так будет и дальше. Те, кто идут против монархии в России – идут против России; с ними надо бороться не на жизнь, а на смерть».
После каждого группового ареста Зубатов подолгу говорит с заинтересовавшими его арестантами. Это не столько допросы, сколько беседы за чаем о неправильности пути, которым идут революционеры, и наносимом ими вреде. Во время этих разговоров Зубатов предлагает собеседникам помогать правительству в борьбе с революционными организациями. Некоторые соглашаются, а некоторые, смущенные беседой с Зубатовым, просто оставляют революционную деятельность.
Свои беседы Зубатов использует в том числе для того, чтобы собрать аргументы для начальства и убедить начать диалог с обществом: «Удовлетворите их потребности, и они не только не полезут в политику, а выдадут вам всех интеллигентов поголовно».
Григорию Гершуни Зубатов предлагает сделку: в обмен на свободу тот подпишет подробные признательные показания, в которых будет сказано, что он не являлся членом тайной организации, но был доведен до отчаяния притеснениями евреев. Гершуни притворно соглашается. Вообще-то революционная мораль запрещала такое малодушие – как член подпольной организации, Гершуни должен признаться, что он убежденный революционер. Но он якобы решает сыграть с Зубатовым в его игру. Он подписывает все, что предлагает ему Зубатов. Тот торжествует. Он считает, что Гершуни сломлен и больше никогда не вернется к революции, и молодого фармацевта отпускают домой в Минск.
Освободившись, Гершуни, очевидно, стыдится своего поведения: когда Бабушка расспрашивает его, как ему удалось выйти на волю, он бормочет что-то невразумительное: «Да вот, бог не выдал, свинья не съела».
Якутск – Париж
Зубатов ошибается. На свободе Гершуни не отказывается от своих революционных планов, а, наоборот, активизируется. Он, как и советовала Бабушка, обзаводится фальшивыми документами и едет в Париж, туда, где живет большинство его единомышленников. И там знакомится с Михаилом Гоцем. Гоцу и Гершуни есть что обсудить – хотя бы нового общего знакомого, Сергея Зубатова.
Гоц старше всего на четыре года, но для 30-летнего Гершуни он такая же легенда, как и парижские старики, народники старшего поколения. Судебный процесс Гоца и ссылка в Сибирь сделали его знаменитостью среди российских революционеров.
Выехав из Москвы в мае 1889 года, Гоц и другие ссыльные добрались до Якутска лишь к ноябрю. Здесь они остались зимовать, чтобы весной отправиться в Среднеколымск, город в трех тысячах километров к северо-востоку от Якутска.
В Якутске много ссыльных народовольцев, и в честь вновь прибывших товарищей они устроили настоящий банкет. Встретились два поколения революционеров: старые каторжники, попавшие сюда после разгрома «Народной воли» около десяти лет назад, и молодые евреи, новые носители народовольческих идей. 23-летний Михаил Гоц – один из самых юных.
Всего через несколько месяцев, в марте, освоившимся на новом месте ссыльным объявили, что ждать, пока сойдет снег, не положено и нужно продолжить свой путь. При 50-градусном морозе двухмесячное путешествие по почти необитаемой местности равносильно смерти, говорили ссыльным и жители Якутска, и даже местные чиновники. Но таково было требование, пришедшее из Петербурга, – не задерживать группу ссыльных евреев в Якутске. Михаил Гоц пытался выступить переговорщиком – но безуспешно.
Ссыльные начали спорить, что делать. Обсуждались разные предложения: всем вместе бежать «в Россию», оказать вооруженное сопротивление, постараться привлечь внимание мировой общественности, наконец, убить якутского губернатора. Некоторые говорили, что все варианты плохи: в Петербурге закручивают гайки, на горстку евреев, возмутившихся в Якутии, никто не обратит внимания – а результатом их бунта наверняка будет насилие. Тем более что связь со столицей – только через Иркутск, ближайший город, где есть телеграф. А Иркутск на 3000 км южнее Якутска, путь на санях занимает минимум две недели в одну сторону. В итоге ссыльные решили написать прошения на имя губернатора, каждый от себя, и в каждом из прошений объяснить, почему ехать в Среднеколымск нельзя.
21 марта 25 ссыльных пришли к отделению полиции. Начальник сначала отказался принимать прошения, а потом все-таки взял и пообещал дать ответ на следующий день. Сказал, чтоб ссыльные ждали его в 11 утра в здании клуба. Мятежные евреи сразу заподозрили, что добром дело не кончится, и на всякий случай приготовили все оружие, которое смогли найти: 10 револьверов и винтовку.
На следующее утро в 10 часов клуб окружил взвод солдат. Ссыльные ждали такого поворота. Началась перестрелка. Один офицер получил легкое ранение, шестеро ссыльных было убито на месте. Четверо получили ранения, в том числе Гоц – ему прострелили легкое.
Суд, продлившийся до августа, приговорил всех мятежников, включая женщин, к смертной казни. Судья ходатайствовал о смягчении приговора для всех, кто не стрелял в полицейских. В итоге троих повесили, остальных отправили на каторгу.
Тяжелораненый Михаил Гоц, по мнению врачей, не должен был выжить, но все же поправился – чтобы попасть на пожизненную каторгу. Его заковали в кандалы и перевели в Вилюйскую тюрьму – ту самую, из которой всего лишь семь лет назад, в 1883 году, освободился кумир всех революционеров Николай Чернышевский.
Несмотря на отдаленность Якутии от всего остального мира и отсутствие нормальной связи, якутский бунт неожиданно получил очень большой резонанс. О произошедшем узнал американский журналист Джордж Кеннан. В 1891 году, после путешествия по России, он написал серию статей о жизни русских политзаключенных, а потом выпустил книгу «Сибирь и ссылка»; в нее вошел и рассказ о якутском бунте. Западная общественность была шокирована – британский парламент даже отправил в Петербург официальный запрос по поводу инцидента в Якутске.
В поддержку репрессированных начали выступать другие политзаключенные, но Гоц в письмах призывал воздержаться от протестов. «Довольно жертв! – писал он. – Надо было или вовсе не начинать конфликта или, начав, тут же закончить» – то есть убить виновника бойни, якутского губернатора.
После смерти Александра III, в 1894 году, приговоры якутским бунтовщикам аннулировали, и им оставалось лишь досидеть десятилетний срок, к которому их приговорили после зубатовского доноса. В 1898-м Гоц вышел на свободу и отправился в четвертый по величине город империи, ее южную морскую столицу – Одессу, где его ждало место руководителя филиала семейной компании.
Богатый наследник Гоц, треть жизни проведший в Сибири, и скромный фармацевт Гершуни, избежавший ссылки благодаря сделке с Зубатовым, неожиданно находят общий язык. С их свидания в Париже начнется новая эпоха в российской политической истории: именно они возродят «Народную волю» под новым названием – партия социалистов-революционеров (СР). Эсеры на ближайшие два десятилетия станут главными врагами царского режима.
После Дрейфуса
В 1900 году власти не считают народников опасными. В отличие от БУНДа – первой подпольной политической партии России в ХХ веке. Полное название этой мощной организации в переводе с идиша – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России».
В конце 90-х годов XIX века во всем мире евреи становятся самой политически активной нацией. Поворотный момент в жизни многих европейских евреев – дело Альфреда Дрейфуса, офицера французской армии, которого осудили по обвинению в шпионаже в пользу Германии. В декабре 1894 года капитан Дрейфус был признан виновным и приговорен к пожизненной ссылке. Но это было не концом, а началом истории: следующие пять лет вся европейская интеллектуальная элита провела в ожесточенных спорах, виновен Дрейфус или нет. Французские военные (а вместе с ними и все антисемиты Европы) не сомневались в его вине. Все французские социалисты доказывали, что он случайная жертва. Самыми ярыми борцами за Дрейфуса были лидер французских левых Жан Жорес и писатель Эмиль Золя, который в январе 1898 года написал знаменитую статью «Я обвиняю…». В ней он доказывал, что настоящим шпионом был не еврей Дрейфус, а француз майор Фердинанд Эстерхази, которого покрывали сослуживцы-патриоты. Золя был признан виновным в клевете и даже бежал из Франции. Позже выяснилось, что писатель был прав. В 1899 году дело Дрейфуса было отправлено на пересмотр, а год спустя его помиловали.
В России дело Дрейфуса вызвало не менее ожесточенные споры, чем во Франции. Антон Чехов был убежден в невиновности Дрейфуса, он ужасно поссорился со своим другом, издателем Алексеем Сувориным, который, наоборот, писал в своем «Новом времени», что еврей Дрейфус, конечно, виноват. Зато с Сувориным был согласен Лев Толстой. «Я не знаю Дрейфуса, но я знаю многих Дрейфусов, и все они были виновны», – говорил он в интервью журналистам.
Дело Дрейфуса перемалывает многих. Огромное впечатление оно произвело на австрийского журналиста Теодора Герцля, который работал парижским корреспондентом либеральной венской газеты Neue Freie Presse. После обвинительного приговора Дрейфусу Герцль, услышав выкрики «Смерть евреям!» на парижских улицах, пришел к выводу, что евреям надо уезжать из Европы. И начал писать книгу «Еврейское государство», которую опубликовал в Вене в 1896 году. В том же году книга была переведена на английский, французский и русский языки, а на следующий год Герцль создал Всемирную сионистскую организацию. Его конечная цель – отдельное еврейское государство.
Изначально Герцль и не мечтал о Палестине. Был проект, например, построить государство в Африке – сочувствующие евреям британские политики предлагали территорию современной Кении. Однако большая часть сторонников Герцля считала эти земли непригодными для жизни. И тогда он решил, что евреи должны поселиться в Палестине. Никаких проблем с арабским населением Герцль не предвидел: в тот момент территория Палестины принадлежала Османской империи, и он был уверен, что арабы будут только рады прибывающим еврейским поселенцам.
Ровно в то же время, когда Герцль создавал свою сионистскую организацию и вынашивал планы вывезти евреев из неблагополучной Европы, политически активные евреи Российской империи решили идти другим путем. В 1897 году, в год рождения сионизма, в России был создан БУНД. В отличие от Герцля и его последователей, участники БУНДа полагают, что нужно не уезжать, а бороться за свои права на родине. Их лозунг: «Там, где мы живём, там наша страна». Они говорят на близком к немецкому идише, тогда как сторонники Герцля возрождают древний иврит. Активисты БУНДа – совершенно светские и очень левые, как и большинство политизированной европейской молодежи, взбудораженной несправедливыми обвинениями в адрес Дрейфуса.
Одним из участников первого съезда БУНДа в 1897 году был Григорий Гершуни. Впрочем, он не согласился с большинством участников съезда: ему не нравилась идея бороться исключительно за права евреев, он стремится к политической борьбе за права всех народов России. Гершуни не вступает в БУНД, а создает свой кружок в Минске, где и знакомится с Бабушкой Брешко-Брешковской.
Москва без революции
Еще в 1898 году в России был принят закон, ограничивающий рабочий день 11,5 часа в дневное время и 10 часами в праздничные дни и ночью. Главным лоббистом этого закона считался министр финансов Витте – он, естественно, покровительствует крупным промышленникам и не допускает радикального сокращения рабочего дня. В свою очередь министерство внутренних дел прилагает все усилия, чтобы сократить рабочий день, – его крупный бизнес не волнует, но волнуют регулярные забастовки. Силовики видят, как настойчиво активисты БУНДа и прочие революционеры начинают вести агитацию среди рабочих.
Руководитель московской тайной полиции Сергей Зубатов считает, что полицейские должны взять в свои руки борьбу за приемлемые условия труда. Если МВД встанет на сторону рабочих в конфликте с работодателем, ему будет намного проще пресекать антиправительственную агитацию. Ситуация может показаться парадоксальной – руководитель спецслужб фактически принимается за правозащитную деятельность, искренне полагая, что это уменьшит число недовольных режимом.
Зубатов начинает так называемую легализацию рабочего движения: создает профсоюзы под эгидой МВД. Это вызов не только работодателям, но и министерству финансов, в сферу компетенции которого входят трудовые отношения. Витте недоволен затеей Зубатова, но сначала закрывает на нее глаза, поскольку она реализуется только в Москве. Да и вмешиваться в московские дела ему трудно: Зубатову покровительствует хозяин Москвы – великий князь Сергей.
«Когда царь надпартиен и не заинтересован по преимуществу ни в одном сословии, рабочие могут получить все, что им нужно, через царя и его правительство. Освобождение крестьян – лучшее тому доказательство» – так описывает ход мысли Зубатова его подчиненный и ученик Александр Спиридович. «Его умственному взору рисовалась перспектива "социальной монархии", единения царя с рабочим народом – при котором революционная пропаганда теряла под собой всякую почву», – рассказывает другой коллега Зубатова.
Зубатов подбирает соответствующую литературу и начинает создавать рабочие кружки, в которые приходят читать лекции университетские профессора, а в случае конфликта с работодателями членам кружков помогают юристы из полиции. Зубатовское движение кажется очень успешным. Особенную славу ему приносит масштабная демонстрация 22 февраля 1902 года: 45 тысяч человек участвуют в шествии прямо в Кремль. Они доходят до Кремлевского холма, где с 1898 года стоит памятник императору Александру II, и возлагают венок. Там же рядом проходит панихида, на которой присутствует сын Александра II, великий князь Сергей. Полиции нигде нет, утверждает жандарм Спиридович, рабочие сами обеспечивают безопасность.
У манифестации есть очевидная политическая цель – Зубатов организует ее как раз в разгар очередных студенческих беспорядков, чтобы показать, что рабочие лояльны как никогда. И ему это удается.
Потом рабочие Москвы еще и отправляют нескольких человек в Петербург, чтобы те возложили серебряный венок на могилу Александра II в Петропавловской крепости. Вместе с ними в столицу доходит и слава Зубатова. Недовольны лишь московские промышленники. Они то и дело жалуются Витте на полицию, но тот ничего не может поделать.
В этот момент Москва считается самым спокойным городом в империи. Революция здесь задушена, рабочие послушны. Московские власти слывут самыми эффективными в стране. Фактически в Москве есть свой царь – это генерал-губернатор великий князь Сергей, дядя императора, женатый на Элле, сестре императрицы. Его правая рука – глава московской полиции Дмитрий Трепов. А правая рука Трепова – руководитель тайной полиции Сергей Зубатов. Под управлением этих трех человек Москва выглядит максимально лояльной.