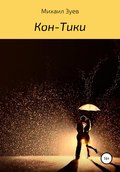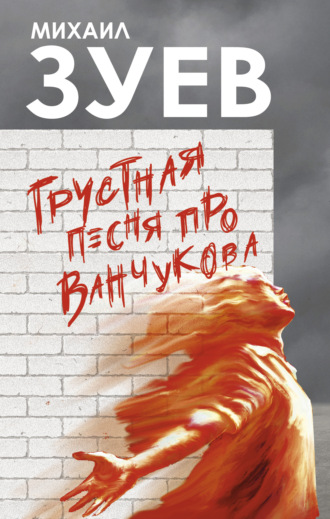
Михаил Зуев
Грустная песня про Ванчукова
Жену в силу обстоятельств вывезти не удалось. Серёжа с Музой появились на свет в лагерной больнице. Вернувшегося отца Сергей увидел лишь в девятнадцатом, когда ему стукнуло четыре. Тогда же впервые услышал русскую речь: мать, ослепительная красавица Фрида, немецкая ашкеназка, лютеранка, говорила с сыном и дочерью исключительно по-немецки, местами срываясь на идиш. Отец-генерал венчание с еврейкой потомственного дворянина без пяти минут инженера Фёдора Викентьевича Ванчукова воспринял трагически: в ультимативной форме потребовал объяснений. Не получив же, сына от семьи отлучил, отказав от наследства и прекратив с ним все сношения: «Не сын ты мне боле!» Впрочем, оплаты за обучение в университете генерал-губернатор не отозвал, хотя регулярных вспомоществований лишил: заканчивай обучение, а дальше так и разбирайся сам, как хочешь. Нравы петербургской высшей аристократии были дики и суровы. Возможно, время бы примирило отца с сыном. Но – не судьба: в конце восемнадцатого года принявший сторону большевиков красный генерал генштаба Ванчуков умер от пневмонии, так больше никогда не увидав сына, ни разу в жизни не встретившись с невесткой и внучатами.
В Москву Ванчуковы добирались кружным путём, долго. Зимой тысяча девятьсот двадцать первого недлинный поезд из Ревеля высадил их на склизком перроне московского Брестского вокзала. Всё имущество семьи помещалось в трёх фанерных чемоданах, на которых восседали до глаз замотанные в шарфы, с башлыками на головах, шестилетки, мальчик Серёжа и девочка Муза. «Also, Kinder, seid nicht ungezogen! Setz dich ruhig und verliere dich nicht!»[3], – застращала близнецов Фрида, пока Фёдор Викентьевич на площади Новых Триумфальных ворот договаривался с извозчиком.
Фёдор Викентьевич рассчитывал на работу по специальности, но судьба распорядилась иначе. В дореволюционные времена по партийным делам Фёдор познакомился с волевым сухопарым человеком. Человека звали Феликс Шченсны, партийная кличка «Переплётчик». Сразу по прибытии в Москву Фёдору передали, что Феликс ждёт встречи с ним. Фёдор был у Феликса следующим утром. Феликс Эдмундович Дзержинский был рад видеть давнего товарища живым и здоровым. Так Ванчуков попал в отдел по борьбе с преступлениями по должности ВЧК. Республика строилась. Для восстанавливающейся и вновь отстраиваемой промышленной базы нужны были геологические и инженерные изыскания. Чтобы в отраслях не было саботажа, нужен контроль. А контролировать инженеров могут только профессиональные инженеры, уж никак не безграмотные партийцы и комиссары, не державшие до этого в руках ничего, кроме винтовок и маузеров. Без спецов республике конец: чуждый партийному начётничеству Феликс понимал это как никто другой.
Поселили Ванчуковых роскошно: в большом доходном доме с длинными балконами на Страстной площади[4], в четырёх комнатах десятикомнатной квартиры. Фёдор Викентьевич в Москве с семьёй бывал редко – вечно в разъездах. Фрида не работала, вместе с детьми осваивала с преподавателем русский язык. Вскоре близнецы пошли в школу. Дворовые мальчишки поначалу смеялись над немецким акцентом Серёжи, но за год-полтора поначалу тихо забылся немецкий, а занявший его место русский становился всё лучше и лучше. Вскоре ни Сергея, ни Музу стало нельзя отличить от обыкновенных московских детей.
После смерти Дзержинского летом тысяча девятьсот двадцать шестого года Фёдора Викентьевича на месяц от работы отстранили, отправив в резерв. А в сентябре он получил новое назначение – в Сибирь, заместителем начальника инженерно-изыскательской группы по строительству металлургического комбината, туда, где были лишь степь да тайга. Фрида ничего хорошего от нового назначения мужа не ожидала: менять квартиру с Первой Тверской-Ямской на покосившуюся, вросшую в землю деревенскую избу в семи днях поездного пути от Москвы не было для неё удовольствием. «Всё дальше и дальше на восток», – грустно шутила она о своей жизни.
Фёдор Викентьевич держался молодцом: в конце концов, то было настоящее дело, такое, что далеко не каждому инженеру в жизни выпадает. Одна беда: в захолустье не было ни одной школы, только начальные, только четыре класса. Поэтому Сергей и Муза получили домашнее образование.
В тридцать первом Сергею исполнилось шестнадцать. В том же тридцать первом исполнился год городскому металлургическому институту. Фёдор Викентьевич, будучи человеком конкретным, проэкзаменовал сына по школьной программе и понял, что знаниями Серёжа не блещет. На следующее утро он отвёл его на строящийся комбинат. После недельного инструктажа Сергею выдали «кошки», американский джинсовый комбинезон «леви стросс» – и он на год стал заводским электриком. Работать было тяжело и весело.
Одна из проблем в строительстве заключалась в том, что по ночам местные воровали с площадок строительный инструмент, кирпичи, гвозди, скобы. Решение Ванчуковым было найдено быстро: под руководством шестнадцатилетнего пацана сварили большие решётчатые клети, подвели к ним фазу. После пары-тройки ударов током местные неграмотные с криками «шайтан, шайтан!» разбегались, и воровство прекратилось. Тогда-то Ванчуков и познакомился с совсем ещё молодым Барышевым, бывшим в ту пору начальником строительства прокатного цеха. Барышев пожал мальчишке руку и, похоже, заприметил. В тридцать втором Сергея Ванчукова приняли на рабфак, в тридцать третьем – зачислили на первый курс металлургического факультета.
В тридцать шестом старый московский товарищ Фёдора Викентьевича по ВЧК предупредил его, что «за ним завтра ночью домой придут». Пришли не завтра, через неделю. Не домой, в контору. Но пришли. Увезли, не дав попрощаться с семьёй. Больше Сергей отца не видел.
Ванчуков думал, что пойдёт вслед за отцом. Но что-то сбилось, что-то пошло не так. Его не тронули, дали доучиться, защитить в тридцать девятом диплом. Только организовали поражение в правах: отличник Ванчуков вместе с другими отличниками должен был получить распределение на Сталинградский тракторный завод. Распределения на тракторный флагман не дали, по-тихому отправили на комбинат.
– Эй, Сергей Фёдорович! Ты что тут, заснул? – окликнула из коридора Зинаида. – Иди, давай, Вяч Олегыч освободился! Ждёт тебя! Одна нога здесь, другая там!
– Спасибо, Зин! – кивнул Ванчуков. – Спасибо, иду.
Глава 2
Взъерошенный после марафонского совещания, Барышев грозной птицей навис над огромным «макетным» столом в углу кабинета, где в строгом порядке были разложены десятки чертежей. Волосы с проседью мокры, лоб, как корона драгоценными камнями, пестрел обильными каплями, верхняя пуговица влажной сорочки расстёгнута, рукава засучены. Мятый пиджак забыт в дальнем углу кабинета на спинке стула. Ослабленный галстук болтался удавкой на мощной бычьей шее с вздувающимися всякий раз при разговоре на повышенных тонах жилами. «Как декабрист на эшафоте в Петропавловке», – подметил про себя Ванчуков. Барышев кивнул, достал из заднего кармана тёмных брюк отглаженный носовой платок, промокнул лоб: «Давно ждёшь?»
Ванчуков не ответил, просто пожал плечами да тихо махнул рукой. На заводе последняя собака знала: Барышев, несмотря на купеческую фамилию, не из бар и барышом не интересуется. По струнке никого не строит, никого не гнобит, власть свою бескрайнюю – уж чего-чего, а вот этого добра у него в избытке – лишний раз не показывает. Работы же у него столько, что десяток молодых здоровых вряд ли потянули бы. Поэтому на Вяч Олегыча никто обижаться не смел: если главный вызвал к назначенному времени и не принял, значит, были на то веские причины. А коли кто за спиной возмущался, так то себе дороже – можно было от товарищей и по сусалам получить. Барышева на комбинате не то чтоб просто уважали – его обожали. Боготворили.
Директора менялись; вон, за пять лет уже третьего прислали. Номенклатура ЦК, не хухры-мухры. И что?! Все до единого – «партийцы». Велеречивые – словами, широкие – жестами, пустые – мыслями. Им всё равно, чем «управлять». Хотя, наверное, это-то как раз было хорошо: хотя бы не мешали, не лезли лишний раз с «ц.у.»[5] и «е.б.ц.у.»[6]. Директора менялись, как гондоны, а Вяч Олегыч оставался: глыба.
Барышев знал огромный завод до самого последнего винтика, до самого потаённого закоулка. Уж кто-кто, а именно он и был отцом меткомбината. Это же он, было дело, в цеху, сделав замечание рабочему и услышав в ответ: «Гудит, как улей, родной завод, а нам – до фени, долбить-тя в рот!», вломил прилюдно кулачищем размером с детскую голову в перекошенное рыло так, что только пятки кверху мелькнули! С Барышевым можно было ругаться – он был отходчив; с ним можно было спорить – он уважал оппонентов и никогда не позволял себе переходить на личности; с ним можно было травить анекдоты – он их знал вагон и маленькую тележку. Одного с ним было нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах: нельзя было обижать комбинат. Потому что он был отцом комбината. А какой отец позволит обидеть своего ребёнка?!
Барышев отошёл от «макетного», сел на стул возле стола для совещаний, пододвинул к себе два сделанных Ванчуковым чертежа:
– Я посмотрел, Серёжа. Вчера посмотрел. В принципе, мне понятно. Но есть моменты… Ладно, давай, излагай!..
Ванчуков приблизился к висевшей на длинной стене кабинета большой обтянутой чёрным линолеумом школьной доске, вооружился куском мела и начал доклад. Барышев слушал спокойно, изредка улыбаясь одними лишь уголками губ. Конечно, никакой ванчуковский доклад Вяч Олегычу был не нужен: все вещи он схватывал молниеносно, с первого предъявления. Просто он был не в силах отказать себе в удовольствии послушать ещё вполне молодого и определённо умного человека, отличного инженера, в судьбе которого Барышеву пришлось сыграть роль опекуна и дирижёра. «Были бы все такие, как Ванчуков, у нас уже давно был бы коммунизм», – обмолвился как-то Барышев на партсобрании. Слова его кворум встретил тихо: хоть и не особо приятно слушать такое о молодом выскочке, а, по сути, возразить-то и нечем.
К тому же Сергей был сыном первого начальника Барышева, Фёдора Викентьевича. Барышев тогда – сирота с плохой наследственностью, двадцатилетний оболтус, умевший лишь цыкать выбитым в драке зубом, ворочать двухпудовые гири, портить девок да пить водку по поводу и без повода. Покойный отец Вяч Олегыча, силовой жонглёр кочевого шапито, давнишний приятель Ивана Поддубного и Юрия Юрского, погиб в пьяной драке, оставив троих детей. Именно Фёдор Викентьевич взял молодого «сам-себя-шире» человека в руководимую им изыскательскую экспедицию, шкурил его два года, научил всему, а потом отправил через всю страну в студенты на металлургический факультет Екатеринославского горного института[7]. Не встреться Фёдор Викентьевич на его беспутном пути, неизвестно ещё, как бы всё оно обернулось. Точнее, известно. Обычный в таких случаях сценарий: пуля или нож – Барышев знал это наверняка.
Барышев дослушал доклад Ванчукова. Встал со стула, прошёлся по кабинету взад-вперёд, взял «беломорину» из большой коробки на столе (папиросы были накиданы там россыпью, чтоб подсохли немного), дунул в неё, придавил картонный мундштук, чиркнул спичкой:
– Хорошо. Всё хорошо, Серёжа. Готовь рацпредложение, – подошёл к двери, приоткрыл. – Зина, Кругляк из техотдела пусть прямо сейчас зайдёт!
Медленно от двери двинулся к рабочему столу. На полпути остановился у окна, прощавшегося с ещё одним пробежавшим весенним днём; задумался. Недолго постоял молча, забыв даже пыхтеть затухающей папиросой. Ванчуков переминался у доски: он знал, что в такие минуты Вяч Олегыча лучше не беспокоить. Барышев спохватился, повернулся вокруг себя на пятках, дошёл до стола, грузно опустился в начальственное кресло:
– Вообще, как жизнь, Серёжа?
Ответить Ванчуков не успел. В дверь постучали, и в кабинет, слегка пригнувшись перед низкой притолкой, зашёл двухметровый сутулый Кругляк. На носу его болталось круглое чеховское пенсне. Ванчуков улыбнулся про себя. Всякий раз, видя Кругляка, он не мог отогнать мысль: как же расхлябанное пенсне не падает с длинного кругляцкого носа?!
– Здравствуйте, Вячеслав Олегович!
Барышев вольготно махнул рукой: мол, не маячь в дверях, садись. Кругляк осторожно вытянул стул из-под стола для совещаний, уселся, сложившись втрое; стал похож на большого кузнечика. Сергей не смог сдержать улыбки.
– Слушай, Кругляк! Ванчуков тут интересные вещи предлагает. Сядь с ним, подготовьте рацпредложение. И – ну, ты меня понял, – не чтобы под сукно, а чтобы сразу, что называется, с колёс, в цех. Как только подадите и как только утвердят. Лады?
Кругляк кивнул. Барышев встал с кресла.
– Спасибо, ребята. Свободны.
Кругляк вышел первым. Ванчуков последовал было за ним, но Барышев поднял руку – задержись, мол. Ванчуков остановился посреди кабинета.
– Из Москвы вызывали? – тихо спросил Барышев.
– Нет, Вячеслав Олегович, – так же тихо ответил Ванчуков, опустив глаза, разглядывая носки своих ботинок.
Барышев махнул рукой – ладно, иди. Подождал, пока закроется дверь за Ванчуковым. Снял трубку прямого секретарского телефона.
– Зина, с Шебаршиным меня соедини. Что значит «когда»? Прямо сейчас. Давай, жду.
Сергей Фёдорович шёл домой пешком. Можно было трамваем, конечно. Но хотелось прогуляться. Звонка из Москвы не было. Как будто у них там, в Москве, кончились телефоны. Или звонки.
Когда забрали отца, студент Ванчуков был уверен, что на днях придут и за ним. Но – доучился и даже получил распределение. Откуда ему было знать, что Барышев не раз и не два ездил в НКВД. Ругался, убеждал, доказывал. Барышев понимал: Фёдора Викентьевича не спасти, так хотя бы Сергея отстоять. Конечно, за самоуправство Барышева могли пустить по тем же рельсам, что и Ванчукова-старшего. У ежовских-ягодских свои резоны. Но Барышева в городе знали хорошо. Кто-то наверху решил, что лучше оставить его в обойме: «стре́льнуть мы всегда успеем». А мальчонка – что мальчонка? Ну, на японского шпиона Серёжка не тянул уж точно. Хотя это скорее везение. И Сергей понимал: без заступничества со стороны в судьбе его не обошлось.
В сорок втором Ванчукова рекомендовали в ВКП(б). Молодой инженер прикипел к своему прокатному стану, жил в цеху. Были, конечно, досадные мелочи. Ванчуков четырежды писал заявление с просьбой снять бронь, отправить на фронт. Барышев переубеждать его не стал. Он просто позвонил в военкоматскую медкомиссию, там подняли документы: тяжёлая миопия. А дальше-то всё просто: документы можно не заметить или, напротив, принять к сведению. К сведению приняли. В конце года у Ванчукова пошёл кандидатский срок. Весной сорок четвёртого первичная цеховая парторганизация – голосовали, единогласно! – приняла инженера-металлурга-прокатчика Ванчукова Сергея Фёдоровича, 1915 года рождения, русского, с законченным высшим образованием, несудимого, в ряды Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Партком завода решение утвердил.
А в сорок седьмом упала анонимка. Так, мол, и так: скрыл членство в семье врага народа. Подняли анкету: скрыл. Копнули глубже по происхождению: из дворян. А при заполнении анкеты написал: «из служащих». Сменного мастера Ванчукова, без пяти минут начальника цеха, из партии исключили. С должности сняли, перевели в разнорабочие. Когда волна дерьма улеглась, через год Барышев Ванчукова в сменные вернул. Но дорога наверх для Сергея теперь была заказана.
Прошло шесть лет. Покойного Фёдора Викентьевича реабилитировали одним из первых, осенью пятьдесят третьего – «за недоказанностью состава». А коль скоро отец чист, то и Сергей ни в чём не виноват. В декабре, стыдливо пряча глаза, партком комбината Ванчукова в рядах восстановил. Горком решение утвердил. Но не в компетенции горкома повторная выписка партбилетов в таких случаях: это прямая номенклатура Комитета партийного контроля при ЦК. Что называется, Москва на проводе. А оттуда полгода кряду – мёртвая тишина. Сколько раз Барышев звонил Шебаршину в горком – тот только бубнил раз за разом: «Ну, уволь ты меня, Вячеслав Олегович, и так делаю всё, что могу…» Барышев не отступался. Отец Ванчукова ему, Барышеву, не дал сгинуть по малолетней уголовке, расправил слабые крылья. Как же ты, Барышев, можешь позволить, чтобы сыну Ванчукова при твоём, Барышев, попустительстве крылья обрезали?! А то и шею свернули…
Сергей Фёдорович свернул с проспекта в тёмный двор. Зашёл в подъезд, поднялся на третий. Открыл дверь своим ключом. Снял пальто. Сел на стул, устало скинул тяжёлые грязные ботинки. Дверь в детскую была открыта. Семиклассники-близняшки Лёва и Ира тихо делали за столами уроки. Распашные двери в гостиную со вставками матового стекла были закрыты; внутри мягко светился торшер. Ванчуков открыл правую створку, заглянул внутрь. На тумбочке бубнил телевизор с водяной линзой, рядом на полу разбуженным пчелиным роем гудел стабилизатор напряжения. Евгения на диване, поджав под себя голые ноги, читала книгу. Едва подняла на мужа взгляд:
– А, это ты. Пришёл?.. Я занята. Поешь там чего-нибудь, ладно… – и снова уткнулась в книжный разворот.
Есть Ванчукову не хотелось. Разве что горячего борща хорошо бы сейчас… Сергей горько вздохнул. Готовить Евгения не любила и не умела. А бутербродов он час назад в заводоуправленческом буфете уже перехватил. Ванчуков зажёг на кухне газовую колонку, зашёл в ванную, разделся, встал под тонкие струйки тёплого душа и понял, что на ходу засыпает.
Да, обязательно нужно выспаться. Утром встреча с дипломниками. Голова должна быть свежей. Хотя – зачем вечному сменному мастеру голова? По большому счёту, на месте Ванчукова, пришпиленного жизнью, распятого, словно какое вредное насекомое в энтомологической коллекции, легко можно было обойтись и без неё.
* * *
Через покрытые разводами от заводской пыли окна внутри аудитории ощутимо припекало. Пришлось открыть дальнюю фрамугу и закрыть дверь, чтоб без сквозняка. Дверь нормально не держалась, то и дело отходила, болтаясь туда-сюда на несмазанных петлях, противно скрипела. Ванчуков свернул было вчетверо – потом, прикинув на глаз, ввосьмеро – листок бумаги, засунул в щель между дверью и косяком, хорошенько дёрнул ручку на себя. Дверь приклинилась. Сергей Фёдорович довольно улыбнулся. Он любил достигать результата.
Изольда смешно щурилась от щекочущего яркого солнца. Справа, из-под соседнего стола, ощутимо тянуло тяжёлой казённой вонью – Вольский, всегда начищавший армейские сапоги до блеска, не жалея гуталина, был в своём репертуаре. Слева, от Ляльки и её шмоток, шли мощные волны «Красной Москвы». Адская смесь солнца, духов и кирзы была непереносима. Иза закрывала глаза, морщила нос, прижимала язык к верхнему нёбу, отчаянно борясь с подступающим против воли чихом, но борьба оказалась неравной. Изольда проиграла.
– Будьте здоровы, товарищ Пегова, – рассмеялся Ванчуков. Изольда смущённо кивнула. – Надеюсь, к нашей с вами теме это не относится? – спросил он. Изольда смутилась ещё больше. – Тогда я, с вашего позволения, продолжу.
Изольда же Ванчукова не слушала. Собственно, там и слушать-то было нечего. Обычное «вступительное», «вводное» переливание из пустого в порожнее. Вот когда начнётся индивидуальная работа, там уже совсем другое дело. Да и вообще, если честно, преддипломная практика Изу интересовала мало. За пять лет, десять семестров, она не получила ни одной четвёрки: круглая отличница. Однокурсники посматривали на бледную тощую девицу, с уложенной вкруг головы толстой чёрной косой, в потёртых мешковатых платьях и плохой обуви, как на откровенную сумасшедшую – с тех самых пор, как её любимыми предметами на младших курсах стали начертательная геометрия и сопротивление материалов. В инженерных вузах говорят: «Сдал сопромат – можешь жениться». А уж построение эпюр, так то и вовсе не для слабонервных.
Пегова же – и китайскую грамоту начерталки, и иезуитское издевательство сопромата, и все до единой металлургические химии – щёлкала как семечки. Чего уж тут говорить о курсах, имевших в себе хоть какую-то внутреннюю логику: теория металлургических процессов, печи, огнеупорные материалы, металлургия чугуна и стали, обработка металлов давлением, рентгенография и испытание металлов брались Пеговой вовсе не задницей, а головой. «Отлично», «отлично», «отлично»… Иза знала: после окончания её зачётку будут демонстрировать в институтском музее под стеклом. Мол, учитесь, как надо учиться, молодёжь.
Изольда уродилась умной. И в этом состояла её большая беда. Всякий раз, сдавая экзамен, получая отличную оценку, переходя с курса на курс, она задавала себе один-единственный вопрос: «Зачем?» Ответа у неё не было. Стоя за кульманом, или колдуя с пробирками за лабораторным столом, или скрипя авторучкой в лекционной аудитории, она не понимала, зачем она это делает. Знала одно: так надо. Почему? Потому что другого пути у неё не было. Никто не предложил никакого выбора. Всё жёстко: или туда, или никуда.
Изольда замечательно рисовала – это передалось от матери. Прекрасно играла на скрипке, чуть хуже на фортепиано – музыкальными способностями наградил отец. Она бы хотела заниматься тем и другим всегда, всю жизнь, потому что от запаха лака скрипичной деки и терпкого аромата канифоли гулко ухало сердце, мир останавливался и запускался заново лишь с первым движением смычка. Иногда Изольда следила за собой и не переставала удивляться: играла не она, играл кто-то другой. Рука на грифе и кисть со смычком двигались сами, они безо всякой девочки Изольды знали, как и что именно – единственно правильно – они должны делать, чтобы рождался звук: один, второй, третий; чтобы звуки не мешали друг другу; чтобы они превращались в прочную ажурную конструкцию, словно Эйфелеву башню, висящую в воздухе над Марсовым полем; из просто звуков становились целым, способным жить в сознании слушателя и тогда, когда музыка стихнет. В такие моменты Иза летела! Перед глазами яркими сполохами бежала партитура; из неё в сознание входили звуки, слышные одной только Изе, а спустя короткий миг, под невесомыми руками, они превращались в вибрацию струн и хор скрипичных дек.
Так какое отношение ко всему этому, настоящему, потаённому, глубоко скрытому, имел сопромат с теорией механизмов и машин?! В третьем семестре, на курсе философии Иза услышала фразу, что просто убила её на месте. «Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь», – испражнился кто-то из древних; Изольда не запомнила, кто именно. Поначалу девушка пропустила садистскую сентенцию мимо ушей. Потом задумалась. Затем – вовсе ужаснулась. Получается, жертва должна любить палача?! Выходит, о скрипке следует забыть, потому что так сложились обстоятельства? Но ведь, если со всем соглашаться, обстоятельства никогда не сложатся иначе. Именно потому, что Пегова была отличницей, она ясно представляла себе, что ничего хорошего, по-настоящему замечательного, интересного её после института не ждёт. Она пойдёт на комбинат: в цех, если не повезёт; в конструкторское бюро, если всё же звёзды встанут иначе. На этом – всё. Потянутся годы, годы, годы. И за эти годы, годы, годы исчезнет вкус жизни, а скрипка, спелёнутая узким футляром, упрятанная вглубь шифоньера, потускнеет, рассохнется, потеряет звук.
Иза не знала, было ли у отца дома фортепиано. Наверное, было – близняшки Оля и Таня ходили в музыкальную школу. Но в больнице, в актовом зале, рояль был точно. Он стоял одиноко на невысокой сцене, задвинутый глубоко к дальней стене. В больнице было не до художественной самодеятельности. Сцену использовали по прямому назначению – для утренних конференций, общебольничных собраний, политинформаций. Иногда, редкими вечерами, когда Иза приходила к папе, он брал её под руку. Вместе поднимались на четвёртый этаж. Папа открывал дверь ключом, включал свет в зале. Иза садилась где-нибудь на скамейку, а папа всходил на сцену, выкатывал рояль в центр, регулировал вращающуюся табуретку. Садился, как бы шутя отбрасывал фалды несуществующего фрака. И начинал играть. Изольда слушала. Иногда незримо вступала в летящую отцовскую мелодию своей скрипкой, той самой, что больше никогда не покидала шифоньера и жила теперь музыкой лишь в её воображении.
Слушать отца было одновременно притягательно и невыносимо. Когда отец ушёл, в Изольде не было ничего, кроме жгучей обиды. Обида растворялась, забывалась к вечеру, когда измученная учёбой девушка падала на кровать, засыпая без сновидений. Но первое, что возвращалось утром, когда Иза, просыпаясь, вспоминала своё имя, была обида. Та же самая, что и вчера. Та же, что будет и завтра. Иза устала от обиды, но обида не видела причин с нею расставаться. Иза попала в петлю, в порочный круг. Так длилось долго. Но нет на свете ничего нескончаемого – ни плохого, ни хорошего. В один из обычных, ничем не примечательных дней она поняла: отец не виноват. Отец стал жертвой обстоятельств.
Изольда никогда не любила мать; наверное, потому, что та никогда не любила её. Мама была сложна – немногословна, скупа на эмоции, иногда попросту взрывоопасна. Когда девушка вспоминала то, что могло вспомниться, что не было похоронено, вольно или невольно, в тяжёлых омутах детских впечатлений, она всегда видела отца жертвой. Жертвой матери. В глазах жены он всегда был в чём-то виноват, всегда за что-то оправдывался – этот большой, сильный человек, делавший сложные операции, за которые в городе часто кроме него никто не брался; человек, который мог помочь потерявшим надежду; человек, на которого молились, за чьё здравие ставили свечи в единственной чудом уцелевшей в городе церкви. Когда Иза поняла это, для неё стало ясно – отец ни в чём не виноват. Он не мог не уйти. Мама сделала всё, чтобы его потерять. Потому что женщины мудрее мужчин и, наметив себе жертву, они не промахиваются, не ошибаются. Они доводят дело до конца.
Отношения же самой Изы с матерью – явление совсем другого порядка. Дочь просто замкнулась в коконе, не защищаясь, не реагируя на материны выпады. Со стороны это могло показаться слабостью, но на самом деле всё обстояло ровно наоборот. Изольда выросла сильной и потому знала: если отвечать матери её же оружием, мать этого не вынесет. И тогда непоправимое навсегда останется на совести дочери. А мать, со временем поняв, что её атаки не достигают цели, стала лишь обозначать нападение – просто боясь сломать о дочь свои последние зубы, которыми она так и не успела доесть Михаила Ивановича Пегова.
Хотела ли Иза, чтобы мать прожила подольше? Нет, не хотела, ибо слишком хорошо её знала. Хотела ли Иза, чтобы мать умерла как можно скорее? Нет, не хотела, потому что никогда и никому не желала смерти. Тогда чего же она хотела? Она хотела, чтобы та оставила её в покое. Но это было невозможно. Поэтому она сублимировалась – до поры до времени в учёбу. Теперь же учёба подошла к концу. И это пугало Изу: она не знала, как быть дальше. Именно «быть», потому что как жить – более-менее понятно: иди «по накатанной», вот и будешь жить. Или – как будто жить. Но вот с «быть» – есть ведь разница, правда? – оказалось непонятно и оттого тревожно. Хотелось ответов, а вспоминалось лишь дантовское «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
С Изольдой после своего вступительного доклада Ванчуков беседовал в последнюю очередь. Беседа не длилась долго. Он сразу понял, что вряд ли девушка нуждается в особом руководстве. Если она пять лет училась лишь на отлично, вряд ли что-то может измениться за финальный дипломный семестр. Вместе они быстро составили план дипломной работы. Список литературы для проработки Иза подготовила заранее. Было ясно, что взялся он не с потолка, а из проведённых в библиотеке немалых часов. Вот что действительно не то поразило, не то насторожило Ванчукова в девушке: что он силился, но не мог уловить, как её воспринимать. Барышева – ну тут всё ясно. Дурочка. Хватит и того, что у неё такой отец – всякий раз при мысли о Барышеве Ванчукову становилось теплее. Комсомольский деятель с рыбьими глазами – тем более. Два бездельника? – от них нельзя было ожидать ничего хорошего; ну да ладно, на «троечку» так и так комиссия натянет – не в первый раз. А вот Пегова… Ванчуков смотрел на неё и не мог понять: ни зачем ей металлургия, ни что она думает, ни чем она живёт. Что ещё было странно: он не мог вспомнить Изольду целиком. Она не укладывалась в его сознании. Вспоминаешь голос – исчезает лицо. Всплывает лицо – и не можешь вспомнить, о чём с ней говорили. Вроде бы молода и красива, но красота эта не из тех, что волнует сердце. Вот Женька некрасива и даже не скрывает, а Ванчуков влюбился в неё двадцать лет назад, словно мальчишка – впрочем, в сущности, он и был мальчишкой, и до сих пор Женькина улыбка заставляла сердце биться чаще. Хотя умом знал: Евгения его никогда не любила. «Господи, ну как же всё сложно, – поймал себя на мысли Сергей, – тут надо про дипломы думать, а меня вон куда занесло…»
– Сергей Фёдорович!..
– Да, – машинально ответил Ванчуков.
– У вас сейчас пуговица на пиджаке оторвётся.
Ванчуков опустил взгляд. Действительно, вторая пуговица болталась на последней ниточке. «Как же часто бывает, что мы сами болтаемся на ниточке…», – горько усмехнулся Сергей.
– Снимайте пиджак, пришью! – не терпящим возражений тоном объявила Пегова, доставая из сумки иголку, напёрсток и маленькую катушку ниток.
– Слушаюсь и повинуюсь! – рассмеялся Ванчуков. – Откуда у вас такое богатство с собой?
– Оттуда, Сергей Фёдорович, что девушкам не пристало быть неряхами, – в тон ему заискрилась смешинками Иза. Изольде отчего-то доставило удовольствие походя пнуть, хотя б и заочно, незнакомую ей жену Ванчукова. – Ну вот, – через минуту добавила она, возвращая Ванчукову реквизированный пиджак, – теперь до второго пришествия не оторвётся.
– А скоро оно – второе пришествие? – вдруг спросил Ванчуков.
– Вы серьёзно? – вопросом на вопрос уколола его Иза.
– Да, – глядя ей прямо в глаза, попёр танком Ванчуков.
– Он никуда не уходил, – вспыхнула зрачками Изольда.
Ванчуков, стушевавшись, отвёл взгляд.
* * *
Окно ещё с вечера было закрыто плотным рулонным жалюзи, вдобавок поверх ещё и задёрнуто фигурно топорщившимися занавесками. Душно, липко, жарко. На нижней полке сосед, хаотично постанывая и бормоча, сотрясал воздух булькающими клокочущими руладами, до краёв наполняя душегубку купе вонью чесночного перегара. Не включая ночника, Сергей Фёдорович откинул простынь с куцым казённым одеялом, на ощупь натянул брюки и тихо, чтобы никого не разбудить, в упоре на руках спустился с верхней полки. Полагавшуюся ему по наркомовской брони нижнюю он ещё на вокзале уступил молодой, но уже с белёсыми прядями в волосах женщине с серьёзного вида мальчишкой-двухлеткой.