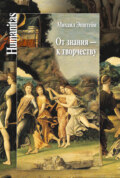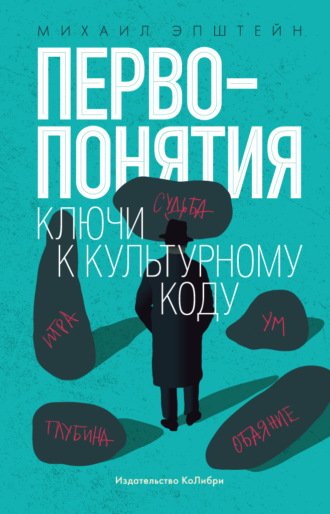
Михаил Эпштейн
Первопонятия. Ключи к культурному коду
Жанр книги
Жанр данной работы можно определить как «книгу понятий». Из важных для меня прецедентов упомяну два известных понятийных компендиума. Книга Олдоса Хаксли «Вечная философия» (1945) – это компендиум религиозной и мистической мудрости. В ней 27 глав: «Бог в мире», «Истина», «Самопознание», «Добро и зло», «Благодать и свободная воля», «Время и вечность», «Молчание», «Молитва», «Страдание»… Каждая глава включает в себя, наряду с суждениями самого Хаксли, много цитат и выдержек из духовных первоисточников – своего рода синтез трактата и хрестоматии.
Книга «Ключевые понятия. Словарь культуры и общества» (1976) британского теоретика культуры, неомарксиста Реймонда Уильямса (1921–1988) отразила методологию политически ориентированных «культурных исследований» (cultural studies), одним из зачинателей которых был сам Уильямс. Круг понятий здесь значительно шире, около 130, и среди них преобладают социокультурные и идеологические: Анархизм, Бюрократия, Коллектив, Демократия, Элита, Эволюция, Семья, Труд, Отчуждение, Идеология, Миф, Работа, Секс, Насилие… Здесь господствует исторический подход к понятиям: прослеживается их этимология, эволюция их значения в разные эпохи и в разных мировоззрениях, приводятся их определения у влиятельных мыслителей.
Книга Хаксли – путеводитель в мир высших смыслов и духовных медитаций, книга Уильямса – инструмент критического исследования современной культуры. Моя цель иная, не спиритуально-поучительная и не историко-аналитическая. Меня интересуют понятия как инструменты интеллектуального творчества: какие проблемы они ставят перед мышлением, какие парадоксы в них заключены и какие идеи, концепции, гипотезы из них вырастают. Поэтому я отбираю понятия не по темам, не по их тяготению к мистике или политике, к спиритуальности или социальности, а по степени их интеллектуальной «взрывчатости» и значимости для культуры вообще. Если «Первопонятия» и можно назвать «словарем», то это словарь конструктивных возможностей ключевых понятий – во всей их проблемности и парадоксальности[15].
Еще одна жанрово-стилевая особенность данной книги – установка на общепонятность, обусловленная самим ее предметом: первопонятиями. Я стараюсь избегать сложной терминологии и теоретического жаргона, обращая эту книгу не к специалистам в области концептологии, когнитивистики, лингвистики, эпистемологии, хотя, надеюсь, и для них книга может представлять интерес. Но целевая аудитория видится мне гораздо более широкой: все, для кого ключевые понятия – не звук пустой, но основа осмысленного бытия в культуре и кто хочет подвергнуть их критической рефлексии в контексте исторических традиций и современных интеллектуальных исканий.
Структура книги
Каждая статья в этой книге, как правило, исходит из достаточно традиционных определений данного понятия. Это точка отправления – а далее начинаются приключения мысли, движение в одном или нескольких направлениях, в кругу тех проблем, которые возникают в связи с данным понятием и делают проблемным его само. Почти все статьи делятся на главки, где данное первопонятие сопоставляется с другими, вводится в характерный для него контекст. Например, судьба рассматривается в связи с понятиями свободы, фатализма и детерминизма; совесть – в связи с мудростью и цинизмом; обаяние – с красотой и игрой; жуткое – со странным и сверхъестественным.
Понятия, которые используются для определения первопонятий, то есть второпонятия, тоже играют важную роль в этой книге – как своего рода задний ряд в мыслительной панораме, придающий ей объемность. Они включены в предметный указатель. Причем функции первопонятий и второпонятий могут меняться, например понятие «ум», которому посвящена отдельная статья, выступает как одно из второпонятий в статье о мудрости, а «мудрость» как второпонятие – в статье о совести. Одна из задач этой книги – раскрыть многомерность и внутреннюю связность концептосферы, все элементы которой соотносятся и взаимодействуют друг с другом.
Если словари и энциклопедии стремятся унифицировать понятия в самом способе их подачи, привести их к общему знаменателю, то в этой книге, напротив, мне хотелось выстроить вокруг каждого понятия свойственную только ему атмосферу, ауру, ассоциативную систему. Поэтому статьи различаются по объему и структуре. Каждое понятие – это личность, уникум: оно достойно того, чтобы выйти из словарной шеренги и стать центром своей собственной маленькой ноосферы, мысле-вселенной.
Выбор алфавитного порядка объясняется тем, что многие первопонятия могут быть поставлены в самые разные тематические ряды. Например, любовь соотносится с желанием и бессмертием; чудо – с верой и удивлением; творчество – с гением и мышлением… Загонять каждое понятие только в одну тематическую ячейку означало бы сужение его проблемного поля и к тому же создавало бы иллюзию линейного развития мысли, свойственную трактатам и философским системам, каковой эта книга не является. Первопонятия не выводятся одно из другого, но образуют мыслительную среду, концептосферу, континуум, ландшафт, где каждое здание стоит на собственном основании, – и вместе с тем они сочетаются и дополняют друг друга как элементы ментально-архитектурной среды.
В конце каждой статьи, после знака , приводятся другие понятия, которые тесно соотносимы с данным и указывают возможные пути дальнейшего чтения. Иначе говоря, наряду с формальным, алфавитным порядком прослеживаются содержательные, проблемные ряды понятий. Общий содержательный план книги приводится ниже: шестьдесят статей, которые можно было бы распределить по семи тематическим разделам.
1. ЖИЗНЬ
Жизнь
Судьба
Событие
Новое
Будущее
Возраст
Смерть
Бессмертие
Вечность
2. РЕАЛЬНОСТЬ
Реальность
Возможное
Чудо
Глубина
Оболочка
Малое
Вещь
Дом
Пустота
Ничто
3. ЧЕЛОВЕК
Человек
Душа
Совесть
Вина
Тело
Чистота
Легкость
Обаяние
Пошлость
Жуткое
4. ЧУВСТВО
Чувство
Любовь
Желание
Ревность
Настроение
Грусть
Тоска
Обида
Удивление
Умиление
Вера
5. УМ
Ум
Безумие
Сознание
Мышление
Мудрость
6. ВЛАСТЬ
Власть
Народ
Интеллигенция
Родина
7. ТВОРЧЕСТВО
Творчество
Гений
Интересное
Поэтическое
Игра
Образ
Слово
Молчание
Письмо
Чтение
Книга
Разумеется, в этой книге очерчена только часть концептосферы – первопонятия, которые мне представляются наиболее интересными, проблемными, харизматичными. Ю. С. Степанов в предисловии к своему словарю концептов замечает, что «количество их невелико, четыре-пять десятков, а между тем сама духовная культура всякого общества состоит в значительной мере в операциях с этими концептами»[16]. Вполне соглашаясь с этим заключением, я бы определил гипотетически объем концептосферы, точнее, ее смыслового ядра, числом 120–150 единиц[17]. По сути, вся умственная жизнь человека в культуре – это расширение личного словаря понятий и постепенное их переосмысление, поиск того предельно емкого языка, на котором можно говорить о главном с самим собой и с другими (самосознание и взаимопонимание).
Эта книга писалась на протяжении более сорока лет, и некоторые ее фрагменты ранее публиковались в других изданиях, в составе отдельных статей и эссе. Для данного издания все они существенно переработаны[18].
Я глубоко признателен моей жене, филологу и переводчику Марианне Таймановой, за внимательное чтение и правку этой книги на разных фазах ее написания и за множество идей и советов, которые в значительной степени повлияли на процесс моей работы.
Первопонятия
Безумиe
Хоть это и безумие, в нем есть свой метод.
Уильям Шекспир. Гамлет
Безумие обычно определяется как душевная болезнь, искаженное восприятие реальности, сопряженное с аномалиями поведения. Безумие – отчуждение от собственного и общественного разума, неспособность считаться с требованиями здравого смысла и общепринятого распорядка, разрушение логических и коммуникативных связей, ведущее к изоляции личности в мире собственных иллюзий, галлюцинаций, навязчивых идей и иррациональных переживаний.
Безумие как оборотная сторона ума
Прежде всего важно подчеркнуть, что безумие – это не отсутствие ума, а его утрата. Только существо, наделенное умом, может сойти с ума, подобно тому как только существо, наделенное даром речи, способно молчать (см. Молчание). Как говорил Э. Гуссерль, сознание есть всегда «сознание-о». Безумие тоже форма сознания, способ его артикуляции, и занимает свое место в ряду других форм: «думать о…», «говорить о…», «писать о…», «молчать о…», «безумствовать о…». О чем можно говорить, о том можно и молчать. О чем можно мыслить, о том можно и безумствовать.
Особенно это относится к тем безумцам и молчальникам, которые когда-то блистали мыслью и словом. О них уместно спросить: о чем они молчат, о чем безумствуют? Они уже вошли в то смысловое поле, из которого нет исхода. Здесь все разрывы, паузы, зияния полнятся значениями, как речь полнится паузами и пробелами, сосредотачивая в них свой иначе невыразимый смысл.
Этот вопрос: о чем? – витает над безумием Ницше, сама философия которого оправдывала безумие вообще и тем самым предвосхищала его собственную болезнь. «Почти повсюду именно безумие прокладывает путь новой мысли»[19]. Не означало ли это, в случае Ницше, что и обратное верно: новая мысль проложила путь безумию?
Здесь безумие рассматривается не как медицинский факт, а как культурный символ: не клиника, а поэтика и метафизика безумия, поскольку оно неотделимо от наклонностей творческого ума. О безумии можно размышлять в рамках разных дисциплин: психологии, психиатрии, социологии, криминологии… С культурологической точки зрения можно выделить два вида безумия: поэтическое и философское, или экстатическое и доктринальное.
Безумие поэтическое
Нам Музы дорого таланты продают!
Константин Батюшков
Словно в небесное рабство продан я…
Фридрих Гёльдерлин
Есть две жертвы, или два героя, поэтического безумия, которые своим разительным сходством позволяют резче выделить общую закономерность: связь безумия с поэтической устремленностью самого ума.
Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) и Константин Батюшков (1787–1855) – почти современники. Оба принадлежат эпохе романтизма. Оба великие – но в тени еще более великих: Гёте, Пушкина. И какие схожие судьбы!
Оба прожили в свете сознания, в благосклонности муз ровно половину своего земного срока. Батюшков жил шестьдесят восемь лет: последние тридцать четыре – с помутненным рассудком. И у Гёльдерлина жизнь разбита так же надвое и так же поровну, словно есть в ней чей-то беспощадно строгий расчет: прожил семьдесят два года, первую половину (тридцать шесть лет) – мечтателем, странником, влюбленным, вторую (тоже тридцать шесть) – домоседом, кротчайшим из душевнобольных. Сравнимы также периферийная Вологда и провинциальный Тюбинген, где провели они остаток дней (в остатке – половина жизни). Как страшно возвращаться в глухую отчизну предков из блеска культурных столиц, унося только помраченный разум!
Задумываясь, отчего Гёльдерлину и Батюшкову уготована такая кара, видишь, что не одним лишь безумием сходны они, но и наклонностями своего поэтического ума. Оба они любили Грецию и Италию и все живое в себе отдавали тем, отжившим временам. Среди поэтов Нового времени, кажется, не было столь неистовых и самоотверженных в любви к полуденным краям и их языческим красотам:
Дай, судьба, в земле Анакреона
Горестному сердцу моему
Меж святых героев Марафона
В тесном успокоиться дому!
Будь, мой стих, последнею слезою
На пути к святому рубежу!
Присылайте, парки, смерть за мною, —
Царству мертвых я принадлежу.
Ф. Гёльдерлин. Греция[20]
Гёльдерлин никогда не бывал в Греции, но витал там, вдали от родины, всем духом своей поэзии. Не опасна ли такая разлука с собой, не означает ли она смерть при жизни? «Царству мертвых я принадлежу». Душа, долго порывавшаяся за эллинскими призраками, и впрямь отлетела без возврата. Кто из немецких поэтов не стремился «туда, туда» (dahin! dahin!) – в край миндальных рощ и священных дубов?! Но пожалуй, только Гёльдерлин решил там остаться, и безумие его – не следствие ли тайно принятого решения?
Правда, в последние годы перед болезнью он неустанно славит Германию – словно предчувствуя наступающий мрак и гибель души и торопясь облегчить свой грех запоздалым слиянием с живой родиной:
Нельзя душой в минувшее бежать
Назад, к вам, слишком дорогие мне.
Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде,
Сегодня я страшусь. Погибель в этом.
И не дозволено будить умерших.
Ф. Гёльдерлин. Германия
Зная дальнейшую судьбу поэта, нельзя не содрогнуться при чтении этих строк: в них последняя попытка стряхнуть созерцательное оцепенение – предсмертный трепет души, почувствовавшей слишком поздно свой плен у чуждого, запертость в своем храме, как в темнице. Как иначе истолковать этот суеверный ужас поэта при созерцании эллинских богов – «умерших», пробуждая которых он сам цепенеет? Не есть ли безумие кара за измену своему, настоящему, за восторг, исторгающий душу из ее земных корней? Собственно, даже не кара, а сам этот восторг – застывший, остановленный, продолженный в беспредельность?
И у Батюшкова тот же порыв:
Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком…
К. Батюшков. Таврида
В итоге средиземноморские мечтатели проводят свои последние десятилетия обывателями российской и немецкой глуши. Судьба как бы тычет пальцем: вот твое законное место, не пожелал сродниться душой – останешься здесь бездушным телом. Впечатление М. П. Погодина, навестившего Батюшкова в 1830 году: «Лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда рукой, мнет воск. Боже мой! Где ум и чувство! Одно тело чуть живое»[21].
Каков главный признак безумия? Сошлюсь на определение О. Мандельштама: «Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки – потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи – потому что, обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам»[22].
«Расширенные зрачки» обоих поэтов были устремлены на Античность и Средиземноморье; невидящими глазами глядели они на окружающее. «…Именно утрата диалогического контакта отмечает поведение больного Гёльдерлина в Тюбингене. Затруднительным для него было и спрашивать, и выслушивать вопрос; даже старые знакомые… находили беседы с ним „слишком жуткими…“ <…> Позднейшие поэтические монологи Гёльдерлина исключают всякий намек на сам акт речи и его момент, на действительных участников общения», – замечает Роман Якобсон, посвятивший обстоятельное исследование поэзии Гёльдерлина периода безумия[23].
О том же сообщает лечивший Батюшкова доктор Антон Дитрих. В состоянии помешательства Батюшков «говорил по-итальянски и вызывал в своем воображении некоторые прекрасные эпизоды „Освобожденного Иерусалима“ Тассо, о которых он громко и вслух рассуждал сам с собой… <…> С ним было невозможно вступить в беседу, завести разговор… <…> Больной… отделился от мира, поскольку жизнь в мире предполагает общение»[24]. Безумие Батюшкова есть застывшее состояние его поэтического ума, как бы окончательно порвавшего связь с окружающей реальностью. Собственно, к такому выводу приходит и сам доктор: «…суть душевной болезни Батюшкова состоит в неограниченном господстве силы воображения (imaginatio) над прочими силами его души. В результате все они затормаживаются и подавляются, так что разум не в состоянии осознать абсурдность и безосновательность тех представлений и образов, которые проходят перед ним непрерывной пестрой чередой… Он живет только мечтами, это грезы наяву»[25].
Как видим, безумие, по оценке Дитриха, неотделимо от силы воображения его пациента. Здесь вспоминаются строки из пушкинского «Не дай мне бог сойти с ума…»:
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
Кстати, Пушкин посещал больного Батюшкова в 1830 году, и, возможно, эти впечатления, а также рассказы доктора Дитриха, который входил в круг пушкинских знакомых, послужили толчком для этого стихотворения, написанного в 1833 году. Сказанное не означает, что избыток воображения и поэтическая «иноземность» были причиной душевной болезни Батюшкова или Гёльдерлина. Возможно, напротив, что именно прогрессирующая болезнь задавала такую направленность их лирике.
Вообще отношение безумия и творчества вряд ли строится на причинности, скорее на причастности-несовместности. По мысли Аристотеля, не бывало ни одного великого ума без примеси безумия. Творчество невозможно без некоего безумия и вместе с тем несовместимо с полным безумием. «Болящий дух врачует песнопенье» (Е. Баратынский). Но там, где болезнь торжествует, не остается места и песнопению. Рассматривая безумие Ф. Ницше, В. Ван Гога и А. Арто, М. Фуко заключает, что «безумие есть абсолютный обрыв творчества». Ван Гогу «было прекрасно известно, что его творчество несовместимо с безумием». «Творчество Арто испытывает в безумии собственное отсутствие…», «…где есть творчество, там нет места безумию…»[26]. Молчание безумных поэтов полнится смыслом по отношению к их прежним речам, но само по себе выдает душераздирающую пустоту.
Безумие философское
С XVII века безумие считается психической болезнью и, как правило, проходит по ведомству медиков и психиатров. Но так было не всегда. Начиная с Платона безумие рассматривалось как высочайшая способность человеческой души, восходящей над ограниченностью разума. «…Величайшие для нас блага возникают из неистовства (mania), правда, когда оно уделяется нам как божий дар…»[27]
Платон выделяет три вида безумия: пророческое, молитвенное и поэтическое. О последнем он пишет:
Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых[28].
Безумие в платоническом смысле – это не утрата разума, а скорее освобождение из его плена. Именно к этой традиции поэтического безумия примыкает Гёльдерлин, причем вполне сознательно. По мысли Гёльдерлина, которая трагически исполнилась в его судьбе, «священное безумие – высшее проявление человеческого»[29]. Точно так же M. Хайдеггер впоследствии признал умопомрачение Гёльдерлина следствием его поэтических озарений. «Чрезмерная яркость завела поэта во мрак»[30].
Безумие, впервые описанное Платоном, хорошо исследовано в истории культуры, да и само выражение «поэтическое безумие» стало ходовым термином: это неистовство, экстаз, свободное излияние самых диких образов.
Но бывает и безумие другого рода, которое как бы не воспаряет над разумом, а мерно чеканит шаг ему вослед. Есть бред иррациональности, и есть бред гиперрациональности. Приставка «гипер» в данном случае означает не просто сильную, а чрезмерную степень рациональности (ср. «гипертония», «гипертрофия», «гиперинфляция», «гипербола»…). Гиперрациональность, или сверхрациональность, – это одержимость правилами, принципами, законами разума, которая переходит в свою противоположность – безумие.
Иными словами, безумие может быть отклонением от разума, а может быть и проявлением его безграничной амбиции и гордыни. Полоний, как известно, заключает о Гамлете: «Хоть это и безумие, в нем есть свой метод» («Гамлет», акт 2, сцена 2). Верно было бы и обратное: не только у безумия есть свой метод, но абсолютная преданность методу есть черта безумия. Можно перефразировать Полония: «Хоть это и метод, в нем есть свое безумие».
Как заметил Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе»[31]. Разум, всецело себе доверяющий, тиранически властвующий над личностью, – это уже безумие. Как известно, обществу в равной мере грозят анархия и тирания – распад государственной власти или, напротив, абсолютизация власти и ее репрессивного аппарата.
Точно так же и разум, как система основных понятий и функций мышления, может быть поражен болезнью анархии – экстатического безумия или болезнью тоталитарности – доктринального безумия. Связность и подвижность – два дополнительных свойства живых систем, в том числе разума. Когда одно из этих свойств утрачено, разум впадает в безумие либо бессвязности, либо неподвижности. Зацикленность разума, сосредоточенность в одной неподвижной точке (idée fixe) не менее чреваты безумием, чем развинченность разума, блуждающего без руля. Что безумнее: хаотическая пляска образов, оргия воображения – или «органчик» разума, застрявший на какой-то сверхценной идее?[32]
Этот второй тип безумия можно назвать философским, если исходить из того противопоставления поэзии и философии, которое проводил сам Платон. Поэзия – мир опьяняющих, призрачных образов; философия – мир вечных, самотождественных идей. Если поэтическое безумие подрывает устои строгой морали, за что поэты и подлежат изгнанию из государства, то безумие философов правит самим государством, это безумие не анархии, а идеократии. Ноостаз – так можно назвать эту форму безумия – противоположен экстазу[33].
Если Платон был философом – открывателем поэтического безумия, то художником – открывателем философского безумия можно считать Джонатана Свифта. Я приведу описание этого недуга из его «Сказки бочки» (1704), из раздела девятого, который так и называется – «Отступление касательно происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе»:
Рассмотрим теперь великих создателей новых философских систем и будем искать, пока не найдем, из какого душевного свойства рождается у смертного наклонность с таким горячим рвением предлагать новые системы относительно вещей, которые, по общему признанию, непознаваемы… Ведь несомненно, что виднейшие из них, как в древности, так и в новое время, большей частью принимались их противниками, да, пожалуй, и всеми, исключая своих приверженцев, за людей свихнувшихся, находящихся не в своем уме, поскольку в повседневных своих речах и поступках они совсем не считались с пошлыми предписаниями непросвещенного разума и во всем были похожи на теперешних общепризнанных последователей своих из Академии нового Бедлама… Такими были Эпикур, Диоген, Аполлоний, Лукреций, Парацельс, Декарт и другие; если бы они сейчас были на свете, то оказались бы крепко связанными, разлученными со своими последователями и подвергались бы в наш неразборчивый век явной опасности кровопускания, плетей, цепей, темниц и соломенной подстилки[34].
Далее Свифт язвительно излагает системы Эпикура и Декарта «в виде теорий, для которых бедность нашего родного языка не придумала еще иных названий, кроме безумия или умопомешательства». И заключает: «…Это безумие породило все великие перевороты в государственном строе, философии и религии»[35]. Для Свифта нет особой разницы между философской системой, государственной диктатурой и военной агрессией, поскольку в их основе лежит некое «бешенство» мысли, которое производится, согласно фантастической физиологии Свифта, избыточным давлением и омрачающим действием мозговых паров. «Этот отстой паров, который свет называет бешенством, действует так сильно, что без его помощи мир… лишился бы двух великих благодеяний: философских систем и насильственных захватов…»[36] Иными словами, Свифт как бы переворачивает мысль шекспировского Полония, находя безумие в «изобретателях новых систем» именно в силу безусловной и безоглядной методичности их мышления.
Ученые, исследователи, мыслители, философы, политики, идеологи, преобразователи общества более, чем поэты, музыканты и художники, склонны к этому методическому виду безумия, поскольку поиск и обоснование метода входит в существо их профессии. Собственно, любой идеологический или философский «изм» – это маленькое безумие, а некоторые «измы», вроде тех, которыми вдохновлялись идеократии ХХ века (включая советскую), – это большое безумие, которому удавалось сводить с ума целые народы на протяжении долгих эпох. Ноостаз узнается по навязчивому стремлению свести все многообразие явлений к одной всеобъясняющей причине. Если Платон обозначает поэтическое безумие словом «мания», то философское, которому и сам Платон, как дальше выяснится, не был чужд, особенно в своих поздних «Законах», можно обозначить как «мономания».