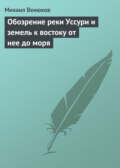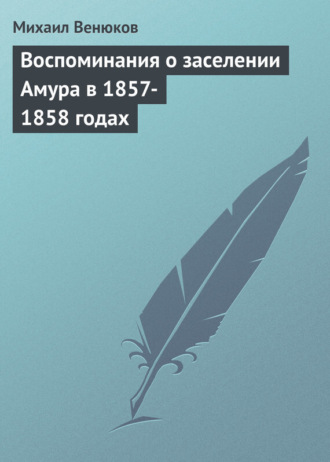
Михаил Венюков
Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 годах
Однажды, помнится, дней через 7–8 после нашего приезда, У-бошко возвестил, что айгунский амбань имеет в виду прислать к нам на пост посольство, в составе трех офицеров и множества солдат на джонках, для принесения генерал-губернатору поздравления с счастливым приездом. Хотя парохода, то есть самого чудесного выражения нашего чувственного и вещественного превосходства над китайцами, в то время еще не было на Усть-Зее, но, разумеется, мы отвечали, что будем очень рады послам, и потребовали их списка для приготовления каждому подарка по чину. Когда список был доставлен, то Я П. Шишмарев целый день возился с отмериванием сукна и плиса, счетом плиток, раскладкой по коробочкам часов и т. п. Амбаню был приготовлен большой кубок, или кружка, из золоченого серебра; из надписи на этом сосуде я с удивлением увидел, что он когда-то принадлежал Августу II, королю польскому, и, может быть, наполнялся им вином при дружеских свиданиях с Петром Великим. Подарки ведь присылались из Петербурга, от кабинета, и что мудреного, что какой-нибудь «старый хлам» оказывался там настолько ненужным, что его назначали к ссылке на Амур или в Монголию.
В назначенный день и час посольство прибыло. Мы приготовились встретить его с возможною торжественностью; но надобно заметить, что это, при нашей обстановке, было нелегко. Н. Н. Муравьев жил в палатке шагов в восемь длиною и столько же шириною, да еще и из нее часть была отделена занавеской, за которой стояла кровать. Приемная зала, стало быть, была необширна. Мы же с Шишмаревым помещались в такой низкой и темной землянке, что только после некоторой практики я привык в ней рассматривать предметы и не получать синяков на голове от ударов о крышу и перекладины. К себе мы не могли бы принять с некоторым приличием даже китайского прапорщика. Итак, все подлежавшие приему направились к генерал-губернаторской палатке. В ней прямо против входа стоял у стены диванчик, обитый ситцем, длиною аршина в два; на нем восседал один генерал-губернатор, подобно бурхану в буддийской часовне. Налево от него, то есть на местах по-китайски более почетных, были посажены я, Травин и Шишмарев, а три складные стула на правой стороне были оставлены для китайцев. Когда они вошли, генерал-губернатор приподнялся, дружески приветствовал их и усадил по чинам. Esprit fort[39] посольства был, очевидно, майор; но так как он был мал по чину, то впереди его был выставлен амбанем гусайда, то есть полковник, отличавшийся угрюмою молчаливостью. Почтенные послы поспешили высказать чувства самой теплой дружбы и глубочайшего уважения от амбаня к генерал-губернатору и при этом объяснили, что амбань, желая засвидетельствовать их вещественно, просит сделать ему честь – не отказать в принятии некоторых подарков. «Подарки эти, – прибавляли послы, – не богаты; но это лишь потому, что сам амбань недавно в должности и не успел разжиться». К этому спичу пояснением явилась довольно крупная черная свинья, которую два бошко немедленно внесли в палатку и положили перед генерал-губернатором. Свинья была со связанными ногами, между которыми был продернут шест, на котором ее внесли; легкий намордник мешал ей громко визжать в присутствии сановников, но она все-таки издавала глухие звуки, естественные в ее положении. Хотя никто из нас не был предупрежден о таком удивительном подарке, но ни один не позволил себе улыбнуться. За свиньею последовали ящики с конфетами из маковых выжимок на касторовом масле и мешок рису. Это уже от самих послов[40]. После этой части аудиенция началась угощением с нашей стороны. Перед генерал-губернатором на столике были поставлены поднос с винными ягодами, миндальными орехами, изюмом и т. п. да бутылка красного вина. Китайцы и мы угощались с полным уважением к величию обеих дружественных держав, то есть на правах совершенного равенства. Но вдруг плохо цивилизованный гусайда достал кисет, набил трубку и пожелал ее закурить. Это уже выходило из этикета, и генерал-губернатор приказал немедленно подать трубки не только себе, но и нам всем. Нужно заметить, что я и Травин не курили совсем, но тут принесли жертву на алтарь отечества, для поддержания к нему должного уважения в надменных сынах Срединного царства.
Когда аудиенция кончилась, началось наделение всего посольства подарками от имени генерал-губернатора. Гусайда и майор получили золотые часы, прапорщик-секретарь – серебряные; все еще по нескольку аршин сукна на курмы; унтер-офицерам тоже давались сукно или плис и по две плитки серебра, солдатам – по одной плитке. Плут У-бошко и тут успел примазаться для получения подарка, хотя он не принадлежал к составу посольства. Китайцы отвалили от берега на своих джонках совершенно довольные; мы тоже были очень довольны. Ясно было также, что цзянь-цзюнь Муруфу (генерал-губернатор Муравьев) внушает им величайший страх, а следовательно, и уважение. Они даже явились перед ним в роли просителей, именно передали ходатайство амбаня запретить майору в лагере стрелять вечером из пушки, чтобы не пугать народ. «Лучше бы даже было вовсе задвинуть ваши пушки в сарай, – поясняли послы, – ведь вот в Айгуне есть тридцать орудий, однако мы не показываем их вам, чтобы не пугать вас напрасно». Нужны были весь навык Николая Николаевича обращаться с китайцами и все сознание нами торжественности момента, чтобы не хохотать от души.
Но если со стороны Китая дела наши шли хорошо, то со стороны Забайкалья известия были неутешительны, или, лучше сказать, – не было никаких известий. Ни о колонистах, ни о грузовой флотилии Ушакова – ни слуху ни духу, что очень беспокоило Николая Николаевича. Наконец, прибыл курьером с бумагами адъютант его Гвоздев, брат нужного тогда всем провинциальным администраторам директора департамента в Министерстве внутренних дел. Он привез сведения, что транспорт Ушакова идет, но что плавание его совершается очень медленно, потому что барки построены не рационально, слишком громоздки, тяжелы, глубоко сидят, неповоротливы; их часто наносит на отмели, и снимание с таковых отнимает много времени, иногда при этом нужно бывает их разгружать. Это было явлением странным, потому что опыт трех предыдущих лет достаточно показал, какие суда пригоднее всего для Амура. Конечно, слишком мелких строить было нельзя, потому что в низовьях реки бывают такие бури, как на море, и мелкие лодки подвергаются опасности быть залитыми водой прежде, чем достигнут берега; но излишне громоздкие барки составляют затруднение, особенно когда на них мало рабочих, как было в настоящем случае. Возник вопрос, кто строил барки? И оказалось, что корабельный инженер капитан Бурачек, который вскоре и подвернулся под руку, так как изящная его лодка с домиком и другими удобствами прибыла одной из первых. Капитану, человеку очень набожному и потому иногда проводившему за молитвою время, которое могло бы быть употреблено на наблюдение за постройкой судов, сделан был нагоняй, сначала довольно мягкий. Он возражал, оправдывался и не без чувства оскорбленного достоинства утверждал, что строил барки так, как предписывает наука судостроения, как он, специалист, знает и понимает.
«Мало ли как глупые головы могут понимать? – сказал тогда, весь вспыхнув, Муравьев. – Берясь за дело, практически им незнакомое, они должны спрашивать совета у других, людей опытных, а вы этого, видимо, не сделали» и т. д. Это было до такой степени по-генеральски, по-аракчеевски, что у меня что-то оторвалось в груди, и с тех пор я стал холоднее к человеку, в котором дотоле видел почти одни хорошие качества. Бывший камер-паж, очаровательный светский человек, друг декабристов – и такая неблаговоспитанность, наглость!.. Нужно, однако, сказать, что в самом деле никто так много не помешал успешности сплава 1857 года, как капитан Бурачек. Ему было все равно, как и когда дойдут в Николаевск построенные им барки; а между тем несчастные рабочие на этих барках, измученные во время сплава вниз, должны были еще возвращаться по Амуру вверх, в самое неприятное время года, поздней осенью, и с ними могла повториться история прошлого года, хотя теперь число постов на Амуре и было значительно больше.
Вскоре за капитаном Бурачеком явился на Усть-Зею другой виновник медленности отправления амурских грузов – титулярный советник Журавицкий, один из тех трех интендантов, которые уже подверглись экзекуции в Шилкинском заводе. Он тоже плыл на прекрасном баркасе с удобствами, превышавшими комфорт катеров генерал-губернаторского и посланнического. Ему новый гонки уже не было, а вручено рекомендательное письмо к адмиралу Казакевичу такого содержания, что служба его в Николаевске делалась невозможной.
Наконец, явился и сам начальник сплава, почтенный А. М. Ушаков, – усталый, почти разбитый нравственно, потому что он хорошо понимал, какие вредные последствия может иметь запоздание его транспорта, и знал, как близко принимает к сердцу успех порученного ему дела генерал-губернатор. Муравьев долго и не раз беседовал с ним то у себя в палатке, то ходя по берегу реки и глядя на проплывавшие суда. В добросовестности, усердии Ушакова сомневаться было нельзя; достаточно было взглянуть на этого человека, чтобы видеть, что он в порученное ему дело вложил всю душу; но Николай Николаевич, отпустив его, все-таки винил себя, что сделал выбор неудачный, не по характеру лица.
Почти одновременно с начальником сплава прибыла на Усть-Зею и самая курьезная часть его экспедиции – баржа с шестьюдесятью ссыльно-каторжными женщинами, которые отправлялись в Мариинск и Николаевск для поступления в тамошние линейные батальоны… прачками и кухарками. Строгий блюститель целомудрия, Ушаков поставил эту баржу на якоре посреди реки и приказал отвязать лодки, с помощью которых интересный груз мог бы сообщаться с берегом. Но генерал-губернатор смиловался над судьбою заключенных в этом плавучем остроге, и обитательницы его имели возможность выйти на берег и посетить не только пост, но и лагерь, конечно, к немалому удовольствию казаков и солдат, нравы которых начали уже грубеть от отсутствия дамского общества. Я слышал потом, что и на постоянных их квартирах, в казармах 15-го и 16-го батальонов, они производили тоже благодетельное влияние и, под именем «тетенек», приобрели общую привязанность солдат, которым, конечно, не только варили обед и стирали белье, но и оказывали разные другие услуги.
Так как и Ушаков не привез никаких известий о движении колонистов, а между тем уже начинался июль, то, чтобы ускорить постройку домов во вновь предположенных селениях выше и ниже Усть-Зеи, решено было немедленно отправить туда солдат с рабочими инструментами. Люди 13-го линейного батальона, назначавшиеся к возвращению на зиму в Шилкинский завод, потянулись вверх по Амуру; часть 14-го батальона – вниз, на Бурею и к Хингану. С последними генерал-губернатор приказал отправиться и Хилковскому, которому было написано, что «успешный ход колонизации возлагается на его опытность, благоразумие и ответственность». Этого последнего Хилковский не ожидал, потому что, не получая прямого назначения в начальники вновь возникавшей линии, он полагал, что роль его – выбрать места под селения, указать их колонистам-казакам, и самому вернуться в Цурухайту. Соответственно этому он и не увеличивал своего дорожного скарба, – слишком легкого, чтобы с ним проводить на Амуре не только зиму, но и осень. С отплытием большей половины солдат лагерь и пост наш как бы опустели; жизнь становилась скучной, а для Муравьева просто мучительной, как по недостатку для него привычной деятельности, так и потому, что важнейшая задача его трудов нынешним летом – успешное водворение колонистов – решалась очень неудовлетворительно.
Среди этого тоскливого положения прибыл на Усть-Зейский пост давно ожидаемый мною топограф Жилейщиков. Скромный юноша этот был затерт людьми более видными и, можно оказать, забыт при снаряжении сплава, а потому порядочно опоздал на Амур. Рассерженный уже ходом дел и особенно разными запаздываниями, генерал-губернатор, когда я доложил ему о приезде топографа, приказал мне разжаловать его из унтер-офицеров и высечь… Вся кровь хлынула мне к сердцу от досады на такую явную несправедливость. Как! Не спрося даже у человека, отчего он опоздал, распоряжаться им, как пойманным на месте преступления вором? И почему? Потому что адъютант Моллер уверял, будто им были приняты меры к скорейшей доставке на Амур Жилейщикова, но тот сам не хотел… Я промолчал в генерал-губернаторской палатке, но, придя к себе в землянку, с негодованием сказал Шишмареву, что не исполню порученного приказания, хотя бы это стоило мне академических аксельбантов и изгнания из Восточной Сибири. И не исполнил. Жилейщикова я немедленно отправил на съемку, приказав ему носить шинель без погонных галунов и не показываться на посту; и тем дело кончилось. Одумавшись, Николай Николаевич, вероятно, сам понял, что отдал распоряжение сгоряча, а потому не тревожил меня напоминаниями. Но мне казалось, что после этого случая он стал ко мне холоднее, стал скорее начальником, чем человеком, который меня называл своим наперсником, в котором я чтил вовсе не его чины и звания, а внутренние достоинства, и у которого искал себе не награды, а доверия и ничего более.
Вскоре затем прибыл новый курьер, Беклемишев, и рассеял несколько общую грусть. Именно он привез определенное известие, что в некоторых верховых станицах воздвигаются уже постройки, но что движение казачьего сплава потому медленно, что нужно останавливаться рано на ночлеги, чтобы выкормить скот, накосить для него травы на день и т. п. Все подобные обстоятельства, очевидно, можно было предвидеть и принять против них меры, например отделить скот в особый эшелон или отправить вперед, на лодках, косцов и даже рабочих для скорейшего возведения зданий, а главное, нужно было раньше выехать в путь всем вообще. Припоминая уверения Хилковского, сделанные еще в Усть-Стрелке, что все устроено наилучшим образом, генерал-губернатор начинал все более и более негодовать на него.
Беклемишев между другими бумагами привез одну любопытную, из Петербурга. Она касалась железной дороги в Забайкалье. Нужно заметить, что уже со второго года нашего появления на Амуре появились там и американцы, которые смотрят на Тихий океан как на Средиземное море будущего, а на впадающие в него реки – как на законные пути их торговли. Они составили проект соединить железною дорогою Амур с Байкалом и таким образом экономически притянуть всю богатую Восточную Сибирь к Тихому океану. Мысль великая и которая рано или поздно осуществится; но янки мерили вещи слишком американским аршином, полагая, что Амур – эта «азиатская Миссисипи», так же быстро созреет в экономическом отношении, как и большая американская река с ее долиной. В Петербурге, конечно, знали, что у нас дела так скоро не делаются и даже не должны делаться, чтобы колесница цивилизации не пошла слишком быстро вперед и не создала на Амуре новой Калифорнии; а потому приготовили янкам отказ. Поводами к нему были выставлены разные элементарные данные из географии, например, что Восточная Сибирь слабо населена, а берега Амура не заселены и вовсе, что в Забайкалье есть Яблоновый хребет, через который дорога должна переходить, и т. п. Кроме того, прибавлялось, что американцы могут надуть нас: распродать свои акции в России и с вырученными деньгами уехать домой, оставив нас ни при чем. Я уж не помню других доводов, но они были все в том же роде, так что, если бы внимать подобным, то никогда не были бы сооружены ни Суэцкий канал, ни Тихоокеанская железная дорога. Зато заношу здесь, как исторический факт, следующий любопытный отзыв управляющего делами Сибирского комитета статс-секретаря Буткова, данный им Беклемишеву при вручении конверта: «Все это, что написал Чевкин, – вздор, а сущность в том, что нам нельзя пустить американцев на Амур и в Забайкалье. Они разовьют там республиканский дух, и Сибирь отвалится. Вы так и скажите об этом Николаю Николаевичу».
Беклемишев и сказал.
Еще в составе привезенной им корреспонденции было письмо из Парижа. Наверху стояла надпись: «Тюльерийский дворец, 7 мая 1857 года», а внизу – подпись великого князя Константина Николаевича. Это было известное циркулярное письмо ко всем генерал-губернаторам, которые приглашались им сообщать сведения в газету «Le Nord»[41], тогда основанную, по проекту Тенгоборского, в Брюсселе на русские деньги, с целью «просвещать общественное мнение Европы насчет России». Н. Н. Муравьев тотчас же предложил мне писать статьи в этот официальный журнал; но я, отозвавшись малым еще знакомством с Восточной Сибирью, отказался. Мне всегда казалось унизительным писать для света не то, что я думаю и знаю, а что мне прикажут. Поэтому не стал я писать и другой статьи, рекомендованной мне Муравьевым, для напечатания ее уже в Иркутске, именно о бессовестности русских торгашей на Амуре, которые действительно брали, например на Усть-Зее, за сахар по 20 рублей за пуд, тогда как сами покупали его в Николаевске по 7 рублей, а доставка им ничего не стоила, ибо совершалась на казенном пароходе, даром. Впоследствии разные начальствующие лица обращались ко мне с подобными предложениями или, точнее, поручениями, но я всегда воздерживался от роли официоза, конечно, иногда очень выгодной, но нередко опасной и всегда совершенно лакейской.