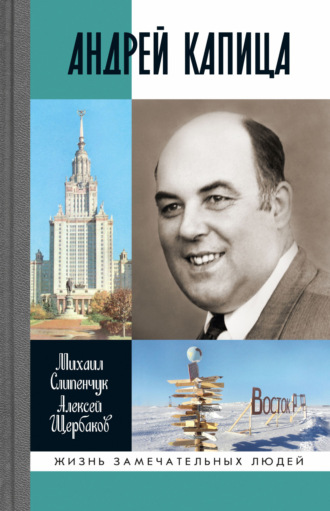
Михаил Слипенчук
Андрей Капица. Колумб ХХ века
Гуляш вокруг стола
Анна Алексеевна рассказывала: «Мама хотела, чтобы мы непременно венчались в церкви. Так и было – мы венчались в церкви. Кроме того, надо было зарегистрировать наш брак в советском консульстве, а для этого мне необходимо было получить советский паспорт взамен моего эмигрантского, так называемого нансеновского. Мой отец, Алексей Николаевич Крылов, в то время работал во Франции и хорошо знал нашего посла Христиана Раковского. Он пришел к нему и сказал: “Моя дочь снюхалась с Капицей. Ей нужен советский паспорт”. – “Это очень непросто, нужно писать в Москву, что займет много времени, – ответил Раковский и, подумав, добавил: – Но мы поступим проще: попросим персидское посольство дать ей персидский паспорт, и тогда нам будет легко поменять его на советский”. Отчего-то Алексею Николаевичу показалась необычайно оскорбительной перспектива превращения меня в персиянку. Он страшно рассердился и поднял такую бучу в посольстве, что очень скоро все формальности были улажены»[49].
Сохранилось письмо Алексея Николаевича Крылова:
«23 июля 1927 г., Париж
Милая Аня! Вчера меня призывал наш генеральный консул Отто Христианович Ауссем и сказал, что тебе паспорт из Москвы разрешено выдать. Для этого необходимо:
Чтобы ты заявила, какую хочешь носить фамилию, т. е. Капица или Крылова – двух нельзя.
Прислала 4 фотографических карточки.
Прислала 12 долларов, если хочешь паспорт на годичный срок.
Перечислила свои приметы:
а) Рост (в см) б) Цвет волос в) Цвет глаз г) Нос д) Особые приметы.
Можешь писать и так:
Рост – дылдоватый
Волоса – карие
Глаза – когти
Нос – луковицей
Особые приметы: на лбу рожки еще не пробились, но места для них обозначились…»[50]
Анна Алексеевна вспоминала: «А затем произошла чудная история уже при регистрации нашего брака в советском консульстве. Нас приняла там строгая дама, которая, как сразу было видно, абсолютно не понимала шуток. Петр Леонидович всегда шутил, а если видел, что у человека отсутствует чувство юмора, тут-то его особенно разбирало»[51].
И это тоже стало характерной чертой Андрея Петровича Капицы, которую далеко не все понимали.
Однако предоставим Анне Алексеевне завершить рассказ: «Строгая дама нас записала, а Петр Леонидович ей и говорит таким веселым тоном: “Ну, теперь вы нас три раза вокруг стола обведете?” (Он имел в виду – по аналогии с церковным венчанием). Она безумно обиделась, рассердилась и сказала строгим тоном: “Ничего подобного. Но я должна сказать несколько слов вашей жене”. И, обращаясь ко мне, добавила: “Если ваш муж будет принуждать вас к проституции, придите к нам пожаловаться”. Даже Петр Леонидович был озадачен»[52].
«Решив, что надо устроить что-то вроде медового месяца, мы поехали в Довиль – очень модный и симпатичный курорт на Ла-Манше. Петр Леонидович любил модные места, роскошные гостиницы и всякую такую чепуху. Он никогда не мог привыкнуть к тому, что мне это абсолютно безразлично, и говорил: «Это ужасно, ты никогда не понимаешь, что ешь, тебя очень трудно угощать. Ему нравилось расспрашивать повара о тонкостях приготовления того или иного блюда. Петр Леонидович любил поговорить с настоящими профессионалами об их деле, будь то повар, парикмахер или ученый.
Не прошло и нескольких дней нашего медового месяца, как Петр Леонидович сказал мне: “Знаешь, мне очень хочется ехать в Кембридж работать. Поедем”. И мы поехали.
Довольно скоро я поняла, что первое и основное у Петра Леонидовича – его работа. Так что мне нужно было с самого начала решить, что работа – это самое главное. А все остальное к ней прилагается. И не надо мне по этому поводу делать ему никаких скандалов, хотя можно иногда сердиться – в конце концов, нельзя было все спускать, надо было его иногда и останавливать.
Сначала Петр Леонидович хотел, чтобы я ему помогала в лаборатории, занималась фотографированием и еще чем-то в этом роде. Но из этого ничего не получилось, потому что я абсолютно ни с какой стороны не научный работник. Было совершенно очевидно, что Лаурман все делает гораздо лучше, а на меня Петр Леонидович только раздражался…»[53]
Английский дом
«Пока Капица не был женат, – вспоминала Анна Алексеевна, – он жил в Тринити-колледже, у него были две хорошие комнаты на втором этаже Nevill’s court. Но семейным людям не полагалось жить в колледже. Сначала мы сняли совсем маленький симпатичный домик в самом центре Кембриджа в Little St. Mary’s Lane, но вскоре переехали в дом на Storey’s way, где родился наш старший сын Сережа. Понемножку завели мебель. В то время Петр Леонидович еще играл на фортепьяно, и ему очень хотелось его иметь. Так что мы купили пианино, и впоследствии этот инструмент переехал с нами в Москву. Петр Леонидович любил, чтобы в доме были картины, и всегда говорил, что картины должны висеть в частных домах, а музей – это кладбище картин»[54].
Анна Алексеевна писала матери мужа:
«20 июня 1927 г., Кембридж
Дорогая Ольга Иеронимовна! <…> Числа 3-го июля мы переезжаем в новый дом. Он на Storey’s way, которая выходит на Huntingdon Road. Там очень хорошо, сады кругом, поле. Совсем на даче. Купили кой-какую мебель – письменный стол, буфет, надо еще кухонный стол, посуду и вообще всякую дребедень домашнюю. <…> Знакомые сейчас уже не так одолевают, а первое время их было столько, что я никого не запомнила и всех перепутала. Теперь начинаю соображать понемногу, как в Кембридже живут люди, только вот с разговором плохо, я, когда вижу много незнакомого народу, то пугаюсь и молчу как рыба. То же было и в Париже, где я научилась не пугаться французов только на пятый год! Я думаю, что здесь дело пойдет лучше и я совсем хорошо буду себя чувствовать с англичанами так через год или два. Петя сейчас много работает, я хожу к нему в лабораторию, снимаю их, как они там работают, снимки получаются очень забавные. Археология моя пока отдыхает, хотя у меня есть возможность работать в большой университетской библиотеке, но, пока все не наладится и мы не устроимся окончательно, не хочу начинать работать. Это ничего, археология может подождать…»[55]
Вскоре (10 июля) Анна Алексеевна вновь пишет Ольге Иеронимовне и подробно рассказывает об их жизни в новом доме:
«Дорогая Ольга Иеронимовна, наконец перебрались в наш новый дом. И оба очень счастливы, здесь чудно, спокойно, хорошо, много воздуха, солнца, окна громадные. Так что дом очень светлый.
Обзавелись мебелью, как раз в меру, не набито в комнатах и все есть, что надо. Купили пианино, и Петя играет каждую свободную минутку. Я сама в музыке абсолютно ничего не понимаю, но слушать очень люблю. Сад наш в диком состоянии, только перед домом получше. Зато растет малина и две яблони, правда, такие махонькие, что от земли не видно, но с яблоками все же.
Внизу – столовая и гостиная соединены большой дверью, так что получается одна большая комната, кухня и прихожая. Всё порядочных размеров, что очень приятно. Наверху кабинет, спальня и две маленьких комнаты, ванна и пр. Одна комната предназначена для Вас. Мы очень хотим, чтобы Вы приехали пожить с нами, но не на месяц, а подольше – на полгода или больше. Вряд ли мы поедем в этом году в Ленинград. Очень это все сложно. Лучше приезжайте Вы к нам, посмотрите, как мы живем. <…> Петя ухитрился познакомить меня со 100 человеками, из которых я половину не могу узнать на улице и часто в недоумении, кто со мной разговаривает. Но понемногу я их всех выучу, и дело пойдет лучше…»[56]
Анна Алексеевна рассказывала: «В доме на Storey’s way мы жили долго. Туда к нам приезжала Ольга Иеронимовна, мать Петра Леонидовича. Они приехала познакомиться со мной и понянчить маленького, недавно родившегося внука (Сергей родился 14 февраля 1928 года. – Прим. авт.). Есть прелестная фотография Ольги Иеронимовны с маленьким Сережей на руках. У нее такое веселое, счастливое лицо – наконец, она как-то успокоилась за Петра Леонидовича: он снова не один, у него семья, и, что немаловажно, его жена не англичанка»[57].
Приходил в тот дом и будущий академик Ю. Б. Харитон: «Летом 1928 года в одно из воскресений я был у Капиц на обеде. После обеда вышли посидеть в саду. В самом дальнем углу сада у ограды стояла детская коляска, в которой находился будущий автор широко известных телепередач “Очевидное-невероятное”. Я спросил у Анны Алексеевны, почему коляска стоит так далеко, и услышал ответ: “А чтобы крика не было слышно”»[58].
Получается, жили они на Storey’s way всего пару лет. Дела у Петра Леонидовича в Кавендишской лаборатории шли настолько успешно, что понадобился более представительный дом, побольше. Вдобавок гораздо лучше жить не в том доме, что ты купил, а который спланировал сам. Немаловажное значение в принятии решения о постройке нового дома сыграло знакомство и дружба с Хьюзами.
Анна Алексеевна вспоминала: «Кроме физиков, у нас было много друзей, самых разнообразных – историки, литературоведы, археологи, священники, экономисты и т. д. Среди наших друзей были Мери и Хью Хьюзы. Он был выдающимся архитектором, довольно много строившим в Кембридже. По проекту Хьюза была сооружена Мондовская лаборатория, которую Лондонское королевское общество построило специально для работ Петра Леонидовича. Он же проектировал и наш последний дом на Huntingdon Road. <…> В этом доме родился наш младший сын Андрюша»[59].
В новом доме было «восемь комнат в двух этажах и еще две комнаты в мансардном помещении, и гараж. При доме хороший сад и теннис»[60].
Уже летом Петр Леонидович пишет матери Ольге Иеронимовне:
«Кембридж, 12 июня 1930 г.
Дорогая моя Мама,
Сейчас очень занят, но все идет помаленьку. Дом подвигается, и недели через две-три собираемся переезжать. Наш новый адрес будет 173 Huntingdon Rd. У меня большая новость… <…> Дело в том, что мне предлагают кафедру, специально для меня созданную, подробности я напишу потом. Окончательно все выяснится только к середине ноября, но почти нет никаких оснований, чтобы я ее не получил. <…> Это очень большая честь для меня…»[61]
В начале зимы, на обратном пути из СССР побывав в Брюсселе на Сольвеевском конгрессе, Анна Алексеевна сообщала свекрови:
«12 ноября 1930 г., Кембридж
Дорогая Ольга Иеронимовна…
В Брюсселе было очень хорошо, заставили физиков работать с 9 утра до 11 вечера. Все почти жили в одном отеле, встречались утром за кофе и тут же начинали физические разговоры. Шли толпой в “свободный университет” и там читали доклады, спорили и говорили до 6 вечера, шли домой и обедали опять вместе, и опять с физическими разговорами. И так всю неделю… Эйнштейн – существо очень симпатичное, у него страшно веселые глаза, зато Madame Curie (мадам Кюри. – Прим. авт.) ужасно свирепая, страшно сухой принципиальный вид. Я думаю, она не самая симпатичная старуха на всем свете. Остальные физики все очень милые, некоторые невыносимо смешные. Все были очень довольны, но рады, когда кончилась неделя, слишком много наговорили…
Мы, кажется, решили заводить еще одну зверушку, которая родится в конце июня. Не могу ручаться за девочку, но постараюсь! Проводили сегодня маму в Париж. <…> Мы заняты сейчас посадкой и планировкой сада, вырастет он, конечно, через 25–50 лет, но все-таки надо посадить…»
Конечно, Елизавета Дмитриевна радуется за детей:
«9 июля 1931 г., Париж
Дорогие мои Петя и Анечка, поздравляю вас с новым малюткой сыном, товарищем Сереженьке…»[62]
Дети-цветы
Сохранились письма Елизаветы Дмитриевны Крыловой к Анне Алексеевне того периода. Елизавета Дмитриевна оставалась жить в Париже и занималась там общественными и церковными делами.
12 июля 1931 г., Париж:
«Дорогая, милая моя Анюточка, как я обрадовалась твоему письму и как счастлива, что малютку вы назвали Андреем, это такое хорошее имя. Теперь я усиленно молюсь, чтобы твое сердце смягчилось и чтобы маленького Андрея окрестили. Не сердись на меня за эти строчки, но ведь крещение для меня Таинство, и я так люблю вас и малютку, что для меня отдаление от вас так тяжело…»
18 июля 1931 г., Париж:
«…Конечно, я очень хочу видеть маленького Андрея и приеду, как ты говоришь, в первых числах августа. Как хорошо, что Сереженька любит братца своего, он и потом будет верно ему покровительствовать. <…> Ты устроила роды потихоньку, и Петя не проснулся, но меня бы ты так не провела…»
20 ноября 1931 г., Париж:
«…Я всегда представляю себе Сереженьку и маленького Андрюшу с его толстыми щечками и очень их люблю и понимаю теперь, отчего бабушки так любят внуков…»
Тон писем участливый, спокойный. Детьми любуются, их опекают, ими занимаются, но без надрыва, наставлений и обсуждений детских пеленок, игрушек и вопросов воспитания. Ну, растут дети и растут… Скорее взрослых больше волнуют социальные и политические проблемы.
4 марта 1932 г., Париж:
«…Очень рада, что ты занимаешься с Сережей русской грамотой, ему полезно сидеть смирно и немного сосредоточиться, хоть 10 минут. <…> Как хорошо, что Петя вовремя купил рядом землю и вам не помешает новый дом…»
9 мая 1932 г., Париж:
«…Получила твое письмо и наброски с Андрюши, очень мы обе были рады. Наброски очень понравились, особенно где он стоит в профиль, такой милашка. Но сейчас мы находимся в таком волнении от этого ужасного события: убийства русским французского президента (казак и писатель Павел Горгулов застрелил президента Франции Поля Думера, потерявшего на войне четырех сыновей. – Прим. авт.). Это дикое убийство мог совершить только сумасшедший. Но сумасшедший он или нет, он все же русский эмигрант, и это падает на всех нас, живущих во Франции и пользующихся такой широкой свободой здесь. За добро отплатил так ужасно. Всякий террористический акт вызывает во мне протест и угнетает, с какой бы стороны он ни шел, а такой лег на нас тяжелым гнетом. Как подумаю о русских, которые работают на заводах, об учащихся во французских школах, как им тяжело. Не думаю, что это только я чувствую так, нет, все одинаково так чувствуют. Конечно, это впечатление со временем сгладится, но пока очень тяжело. Ты, конечно, читаешь все подробности об этом событии и всякие предположения, но будем ждать судебного следствия, что оно откроет.
Что такое ты пишешь, что хотела бы поехать в Союз, т. е. в Россию? Почему ты пишешь, что ты хотела бы поехать. Как? Одна? Что это значит?
<…> Что же это Сереженька не делает успехов в русской грамоте, все же не оставляй с ним заниматься хоть 10 минут. <…>
Я очень рада, что Петина лаборатория вышла красивой, напиши, когда она откроется. <…> Мы раньше, чем ты написала, прочли про открытие Кокрофта. Мария Ивановна воскликнула: “Почему это не Петя открыл, ведь он работал над атомом”. Я же хочу знать вот что. Кокрофт работал у Пети в лаборатории и пользовался его машиной, если это так, то тут и Петина часть есть. Так ли это?..»[63]
За период более года письма отсутствуют.
6 марта 1934 г., Париж:
«Ты пишешь о советской школе для Сережи, но ведь это значит лишить… его семьи, а себя сына, потому что он отвыкнет от вас, а Андрюшу лишить брата. К тому же в советской России, которая так еще молода, нет ни хороших учителей, ни школы удовлетворительной, они сами об этом часто пишут. Да и неудивительно это, для этого время требуется. Да и жизнь там еще не устроилась, и не наладилось с продуктами, всё еще недоедают. Страна еще не вышла вполне из хаоса, еще строится. И в гигиеническом отношении не все в порядке, и эпидемий много. Одним словом, страна, и такая обширная, как Россия, пережила революцию, все еще строится, созидается, много увлечений, и сами часто отменяют то, что начали, и в школьном деле особенно. Буду надеяться, что найдешь в Кембридже неплохую школу и вы останетесь все вместе…»
9 июля 1934 г., Париж:
«Сегодня минуло три года маленькому Андрюше, и я крепко целую его щечки. <…> Письмо твое очень интересно, и о вашем пребывании на мельнице, и о путешествии по Бельгии. Понимаю тебя и Петю, что вы хотите ехать на автомобиле по северным странам, это очень интересно. Я боялась, что вы поедете через Германию, которая сошла с ума и очень опасна…»[64]
Как выяснилось, дети Капицы вовсе не обижены вниманием! Они путешествуют с родителями на машине, и каждое лето Анна Алексеевна проводит с ними у моря: «Хьюзы состояли в обществе охраны мельниц, и у них самих была мельница в Норфолке, на берегу моря. На этой мельнице мы с детьми жили три лета»[65].
Вот письмо оттуда Петра Леонидовича Ольге Иеронимовне:
«Мельница, графство Норфолк, 22 июля 1934 г.
Дорогая моя Мама,
Пишу тебе с берега моря, где Аня с детьми уже живет 5 недель, и завтра все возвращаемся в Кембридж. Ребятишки и Аня хорошо поправились, и мне также это пошло на пользу…»[66]
А вот его письмо жене из СССР (об этой поездке чуть ниже):
«Ленинград, 14 октября 1934 г.
Дорогой Крыс,
Вчера тебе писал. Сегодня хочется писать опять. Все думаю о тебе и хочется сказать, как я тебя, дорогого Крысенка, люблю, но не знаю, как подобрать слова. И маленьких крысят люблю тоже и жалею, что не могу вас видеть. <…> Одно только меня волнует – лаборатория моя. Это ведь тоже мое детище, и большая часть моего “я” туда вложена…»[67]
Тема детей почти всегда затрагивается в письмах как-то вскользь… Может быть, Петр Леонидович и Анна Алексеевна были плохими, бездушными родителями?
Анна Алексеевна вспоминала: «Маленьких детей Петр Леонидович боялся, он почти никогда не брал их на руки. Он не мог забыть ужасной гибели своей первой семьи. После этой трагедии он страшно переживал болезни своих близких, до сердечных приступов. Болезни для него – это был просто ужас. Он никогда не мог успокоиться, и его безумно травмировали любые болезни детей. Он интересовался детьми, когда они становились более или менее большими. Трагедия, пережитая в юные годы, долго, очень долго не оставляла его. Он не любил вспоминать прошлое и никогда не рассказывал об этом. Мы не отмечали Рождественские праздники, ведь это были для Петра Леонидовича страшные дни, когда умерли его жена и новорожденная дочь. Только много позже, когда подросли наши дети, мы стали для них устраивать праздник»[68].
Отсутствие в семье Петра Леонидовича Капицы чрезмерного «чадолюбия» подметил, правда уже намного позже, писатель Михаил Михайлович Пришвин. Заехав в гости к Капицам на дачу на Николину Гору, он в своем дневнике сравнивает собственную жену с Анной Алексеевной и 19 июня 1951 года записывает: «Обе женщины устремлены больше к мужу, чем к детям, но у Капиц это выходит по-английски, а у нас по-русски. Это и надо заметить: обычные браки бывают в смысле: брак есть могила любви, то есть что родители сами по себе в родах своих опустошаются и живут в детях. А тут они остаются друг с другом, а дети отходят в “хорошие отношения”». И 23 июля добавляет: «Семья Капицы. Жена его детей вырастила, воспитала, но это было для нее делом вторым. Первое было у нее: помогать мужу в его творчестве, главное – это его дело»[69].
Елена Леонидовна Капица написала про Анну Алексеевну: «Она ведь, что ни говори, сознательно, добровольно, с радостью отдала всю себя, всю свою жизнь служению Капице. Анна Алексеевна признавалась мне, что, наверное, была не очень хорошей матерью, ведь и интересами своих сыновей она всегда жертвовала в пользу Петра Леонидовича, говорила, что, возможно, сыновья обижались на нее за это»[70].
Клетка для профессора
3 февраля 1933 года в Кембридже торжественно открывали Мондовскую лабораторию – Mond Laboratory. По выражению Петра Леонидовича Капицы, то, «что он построил модернистское здание среди старинной готики и ее подражаний, им очень понравилось»[71].
Лабораторию передавало университету Лондонское королевское общество во главе со своим президентом Гоулендом Хопкинсом. Потому что построили ее «на проценты с 50 000 фунтов стерлингов, которые двадцать лет тому назад оставил Лондонскому королевскому обществу Dr. Ludwig Mond» – известный химик и предприниматель. Проценты составили 15 000 фунтов стерлингов. На церемонии присутствовали престарелый сын Монда – sir Robert Mond, который, опять же по выражению Петра Леонидовича, “дал монету”, и внук – Lord Melchet»[72]. И это все для того, чтобы Капица мог спокойно работать.
Гвоздем программы стал визит на церемонию Стэнли Болдуина – лидера Консервативной партии, уже дважды побывавшего премьер-министром Великобритании и готовящегося стать им в ближайшем будущем, и, между прочим, двоюродного брата Редьярда Киплинга. И. М. Халатников удивлялся: «Для меня до сих пор остается загадкой, почему Болдуин, который был враждебно настроен к Советскому Союзу, принял участие в церемонии открытия Мондовской лаборатории, директором которой был советский ученый. Хотя, конечно, в те годы этот политический деятель был вместе с тем и канцлером Кембриджского университета»[73].
В письме от 5 марта 1933 года Петр Леонидович описал все это своей матери Ольге Иеронимовне так:
«Потом был осмотр лаборатории. Мне в обязанность вышло показывать и объяснять, и водить Болдвина (именно так в транскрипции П. Л. Капицы. – Прим. авт.). Он не много интереса проявил, на мое счастье. Но… показывая ему замерзание водорода, я объяснил, каким таким взрывчатым веществом является смесь жидкого водорода с твердым воздухом. Что три физика уже было убито и пр. На лице его я прочел жуть…»
Петр Леонидович привел Болдуина отдохнуть от толпы в свой кабинет: «Кабинет у меня шикарный. Самый что ни на есть модернистый. Мебель из стальных труб, обтянутая ярко-красной кожей, и всё в этом стиле… Резерфорд и говорит: “Фотографы просят, чтобы мы вместе попозировали”. Но Болдвин запротестовал: “К чертовой матери их”, – говорит. Тогда Крокодил говорит: “Пойдемте чай пить”. – “Чаю я не хочу, – говорит Болдвин, – а вот если вы бы виски мне дали…” А кроме денатурированного спирта у нас в лаборатории ничего не было»[74].
В общем, все было празднично, мило, местами нелепо, но главное – обещало широкие перспективы. Как раз в Мондовской лаборатории 19 апреля 1934 года Петр Леонидович Капица получил жидкий гелий на созданной им установке!
Елена Леонидовна Капица писала: «Полтора года спустя после этой торжественной церемонии Капица, как он это делал в каникулярное время все последние годы, отправился в отпуск на родину вместе с женой (дети остались в Англии. – Прим авт.). Петр Леонидович выехал из Кембриджа на своей машине. Он пригласил в поездку и директора УФТИ Александра Ильича Лейпунского, который при содействии Капицы был принят тогда на стажировку в Кавендишскую лабораторию»[75].
Вот как об этой поездке вспоминала Анна Алексеевна: «В конце августа 1934 года мы, как всегда, решили навестить Ольгу Иеронимовну и Леонида (старшего брата Петра Леонидовича. – Прим. авт.). На этот раз мы поехали в Россию на машине, которую незадолго до этого купили. Это была машина марки “Воксхолл”. Сначала мы погрузили ее на пароход и отправились в Берген (пароход прибыл в Берген 25 августа. – Прим. авт.) Из Бергена уже на машине мы поехали на север Норвегии и через Швецию и Финляндию добрались до Ленинграда. Это было очень красивое путешествие – мы проезжали фиорды, поднялись в горы, добрались до самых северных районов. По дороге останавливались, собирали грибы, тут же их жарили, купались в озерах. Одним словом, это была прелестная поездка. На границе Финляндии нам отчего-то пришлось вместе с машиной погрузиться в поезд, и таким образом мы переехали границу СССР и прибыли в Ленинград. В общей сложности наше путешествие продолжалось около двух недель»[76].
Сын этнографа и режиссера Леонида Леонидовича Капицы, старшего брата Петра Леонидовича – тоже Леонид Леонидович, бывший в те времена подростком, – прекрасно помнил эти наезды дядюшки: «В 30-е годы дядя и Анна Алексеевна, его жена, несколько раз навещали нас. Приезжая, они всегда привозили необыкновенные подарки. Однажды, например, мне был подарен превосходный набор настоящих инструментов. В нем был невиданный у нас металлический рубанок, тисочки и еще один рубаночек с ручками по бокам для обстругивания вогнутых поверхностей. Дядя сам прошел в детстве хорошую школу ремесла и рукоделия, всю жизнь эта школа помогала ему, вот он и обо мне подумал. В другой раз дядя подарил мне бывший тогда в диковинку металлический конструктор “Меккано”. Купил он его, правда, в Харькове и назывался он не “Меккано”, а всего лишь “Металлообдiлувальная скрiнка Пiонер”. А в конце лета 1934 года привез совсем необыкновенный дорогой подарок – марочный каталог фирмы “Ивер” 1933 года. Я относился к собиранию марок очень серьезно, и поэтому самый знаменитый каталог, да еще 1933 года издания, то есть самый последний, привел меня в восторг. Для меня марки были экзотикой дальних стран; будоражило фантазию, что вот этот кусочек бумаги побывал в Африке, в какой-нибудь Либерии или на Берегу Слоновой Кости».
Да нет, Петр Леонидович и Анна Алексеевна Капицы определенно были очень хорошими, заботливыми родителями!
Между тем племянник Леня продолжает: «В тот год Петр Леонидович и Анна Алексеевна… приехали на собственном автомобиле. Погрузив его в Англии на пароход, они приплыли в Скандинавию, а затем через Норвегию, Швецию и Финляндию прикатили в Ленинград… Во время поездки и пребывания в Ленинграде дядя снимал кинофильм. В этом фильме есть уникальные кадры довоенного, неразрушенного Петергофа с былым, непохищенным “Самсоном”».
Но тут начало происходить странное. Леня вспоминал: «Маленький “квадратный” автомобильчик дяди по тем временам казался чудом совершенства. Он ночевал у нас во дворе и однажды вдруг пропал. Началась паника и поиски, но вскоре автомобиль обнаружили невредимым неподалеку от дома. Кто-то просто захотел покататься немного на заморской штучке»[77].
Думается, что не просто – и это было совсем некстати, поскольку программа Петра Леонидовича в СССР, несмотря на отпуск, была весьма насыщенной. Они с Анной Алексеевной приехали в Ленинград как раз к началу Международного конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения Д. И. Менделеева (так называемого Менделеевского конгресса). Затем на несколько дней поехали поездом в Харьков, где Петр Леонидович проводил свою ежегодную консультацию в УФТИ, и снова вернулись в Ленинград.
Елена Леонидовна Капица писала: «24 сентября Капице позвонили в Ленинград, где он жил у своей матери, и предложили 25 сентября приехать в Москву, в Кремль, для беседы с заместителем Председателя СНК СССР В. И. Межлауком. Капица ответил, что приехать не сможет, так как очень занят, потому что на днях возвращается в Англию». В ноябре 1934 года в письме французскому физику Полю Ланжевену Анна Алексеевна рассказывает об этом эпизоде так: «В ответ на отказ приехать человек, который говорил с ним по телефону, ему сказал: “Профессор, вы не отдаете себе отчета в своих словах. Это приказ правительства, вы не можете отвечать отказом, вы должны приехать…” В Москве Межлаук от имени правительства страны сообщил Капице, что отныне он должен будет работать в СССР, а выездная виза его аннулируется»[78].
Анна Алексеевна вспоминала: «Он пробыл там долго, а когда вернулся, сказал: “Знаешь, они не пускают меня назад в Кембридж”. Для Петра Леонидовича это было полнейшей неожиданностью и очень тяжелым ударом. В тот же вечер мы поехали обратно в Ленинград, и я хорошо помню эту ночь в поезде. Он был страшно потрясен, невероятно, все рухнуло. Он потерял лабораторию, только что построенную специально для него, с самыми новыми приборами… Надо было решать, что делать в этой ситуации. Необходимо было посоветоваться с Резерфордом и узнать его настроение, к тому же в Кембридже оставались дети. Я должна была как можно скорее вернуться в Англию, моему отъезду не чинилось никаких препятствий… Но перед моим отъездом мы договорились с Петром Леонидовичем о самых разнообразных вещах – как мы будем переписываться и какие у нас будут в письмах шифры, чтобы было понятно только нам… Мы совершенно не знали, чем окончится наша жизнь здесь: посадят – не посадят, вышлют – не вышлют, и не хотели, чтобы дети от этого страдали. Мы думали, что, может быть, я вернусь к Петру Леонидовичу, а детей оставим за границей, в каком-нибудь закрытом учебном заведении.
Петр Леонидович просил меня по приезде в Англию как можно скорее поговорить с Резерфордом, все ему рассказать, узнать его отношение. Когда Мондовская лаборатория планировалась, Петр Леонидович оговорил с Резерфордом возможность того, что когда-нибудь он уедет и в таком случае сможет забрать оборудование с собой, возместив Кембриджскому университету все затраты… но никогда не думал, что все случится так неожиданно. Вот я и отправилась в Англию со всеми полномочиями от Петра Леонидовича»[79].
2 октября Анна Алексеевна отправилась в Англию на пароходе «Сибирь», а Петр Леонидович остался в Ленинграде у матери и брата.
Сразу по приезде она написала мужу из английского дома:
«8 октября 1934 г., Кембридж
Дорогой Петя,
я благополучно добралась до дома, нашла всех в полном порядке. Сережка и Андрейка очень веселы, и Сережа, конечно, первым делом спросил о ноже, и он ему страшно понравился, и с ним он не расстается – и спит, и ест. Все игрушки им подарены в общее пользование, и это вышло очень удачно. Только, чтобы Андрейке компенсировать ножик, я подарила ему отдельно человека, которому собака рвет штаны. Погода здесь стоит чудесная, тепло и солнечно.
Ехали мы очень мирно, меня встретили Катя Сперанская и John Кокрофт, с которым мы приехали в Кембридж. Ну и проклятие править по Лондону, особенно в понедельник утром, это совершенно предприятие не для меня, но вышла я из него с честью. <…>
Карик (автомобиль. – Прим. авт.) в порядке, но довольно грязный, хотя и был покрыт брезентом, но все-таки немножко покрылся каким-то налетом.
В лаборатории все благополучно. <…> (Дальше идет закодированный текст: П. Л. и А. А. договорились, что после слов «дорогой мой», «дорогая моя» имена их детей становятся псевдонимами: Сергей – Резерфорда, Андрей – Ланжевена. – Прим. авт.). Еще хочется написать тебе, дорогой мой, о Сережке, очень он хороший мальчик, замечательно смышленый и, для его лет, поразительно вдумчивый. Когда с ним говоришь, то не нарадуешься, как он хорошо все понимает и живо схватывает. Правда, все дети в его возрасте хороши, но все-таки хочется похвастаться, что у нас такой сынишка. А главное, хорошо, что он всегда бодрый и веселый и очень бодряще на всех действует и не унывает, даже когда видит, что перед ним трудная задача и, может, он положит много времени, прежде чем ее решить. Очень он меня порадовал…»[80]
Петр Леонидович с Анной Алексеевной тогда провели в разлуке около года – и все это время Елизавета Дмитриевна Крылова пробыла в Кембридже с детьми и Анной Алексеевной. А Петр Леонидович поселился в Ленинграде у матери Ольги Иеронимовны с семьей старшего брата в старой, еще отцовской квартире. Хотя квартира 45 в доме 73/75 по улице Красных Зорь (потом Кировский, а теперь снова Каменноостровский проспект. – Прим. авт.) была настоящим Ноевым ковчегом. После смерти мужа в 1919 году Ольга Иеронимовна мудро рассудила, что при новых властях такую большую квартиру ей не сохранить, и сама «уплотнила» ее собственной родней и друзьями. Делать Петру Леонидовичу тогда было особо нечего, и он обрушил весь свой нерастраченный отцовский пыл на племянника Леньку, который только вступал в возраст «пятнадцатилетнего капитана».


