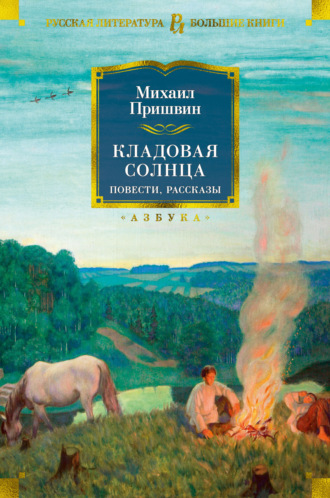
Михаил Пришвин
Кладовая солнца. Повести, рассказы
Бездна
Если кто скажет, что бездна тянет его в нее броситься, то это значит: он сильный, стоит у края ее и удерживается. Слабого бездна не тянет и отбрасывает на покойные безопасные берега.
Бездна – испытание силы всему живому, той силы, которую нельзя ничем заменить.
Но, сильный, помни: может быть, придет такой час и такая бездна откроется, что скажет тебе: «Уйди прочь, ты не можешь». Нужно вовремя отходить от бездны, сохраняя в себе последнюю силу на крайний, на последний случай, и жить до конца в постоянном сознании: хоть раз, да могу; и тогда может случиться, что человек победит даже смерть последним, страстным желанием жизни.
Росстань
Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей идти – везде беда разная, но погибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а оттуда назад, – для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия.
Капля и камень
Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки – началась капель. «Я! я! я!» – звенит каждая капля, умирая; жизнь ее – доля секунды. «Я!» – боль о бессилии.
Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.
Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье – боль бессилия. И все же: «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.
Граммофон
До того тяжела была утрата друга, что о внутреннем моем страданье стали замечать и посторонние. Жена моего хозяина это заметила и потихоньку спросила меня, чем это я так расстроен. Я встретил первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.
– Ну, я вас сейчас вылечу, – сказала хозяйка и велела мне отнести в сад ее граммофон. Там было много цветущей сирени. Еще там была посеяна фацелия, и ярко-синяя цветущая поляна вся гудела пчелами. Добрая женщина принесла пластинку, завела, и в граммофоне знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Хозяйка восхищенно смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.
С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, сирень и моя добрая хозяйка. Тогда я не понял, но теперь знаю, что она действительно вылечила меня от безысходной тоски, и когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона – я молчу.
Аппетит к жизни
Приходил расстроенный человек, назвался «читателем» и просил у меня такого слова, которое могло бы ему спасти жизнь.
– Вы же, – говорит он, – слову служите, и видно по вашим писаниям, что слово такое знаете. Скажите мне такое слово.
Я сказал, что таких слов про себя для особого случая не держу, если бы знал их, то сказал.
Никаких отговорок слышать он не хотел: вынь да положь. До того расстроен, что плакал. И когда уходил и в передней увидал свой узелок с сапогами, еще больше заплакал. Он объяснил, что, надевая дома валенки, вспомнил – возможна оттепель, и захватил сапоги.
– Значит же, – сказал он, – сохраняется во мне такой аппетит к жизни, что подумал о возможности весенней оттепели.
Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я сам свою беду-утрату погасил некогда подобным ожиданием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно на душе: я знаю слова утешения и написал их, но только читатель попался мне плохой.
И тогда я вспомнил кое-что и неизвестному человеку сказал, как сумел.
Ключ к счастью
В мире нет ничего чужого, мы так устроены, что видим только свое; один видит больше, другой видит меньше, но все – только свое и ничего больше.
Приходишь в себя, обыкновенно разглядывая какую-нибудь подробность, сущую мелочь, через которую и входишь в тот мир, где «я» делается душой всего. Много лет я думал над этой подробностью, мелочью, которая является воротами в желанный мир. Я храню множество памятных случаев, но отчего, при каких условиях является самое родственное внимание, на почве которого происходит встреча, разобрать до конца до сих пор не могу. Ключа тут, вероятно, быть и не может: ведь это был бы ключ к счастью. Знаю одно, что вертеть надо разными ключами, вертеть до тех пор, пока замок не откроется.
После, когда захочешь другой раз открыть этим ключом, – не откроется, и окажется, что тогда замок открылся сам. Но ты продолжай вертеть каким-нибудь ключом, в этом весь твой метод – вертеть, трудиться с верой, любовью, – и замок тогда непременно откроется сам.
Сегодня в хаосе цветов и звуков роскошного луга синей фацелии один солнечный лучик попал на венчик крохотной гвоздики, и она вспыхнула рубиновым огнем и привлекла мое родственное внимание ко всему миру цветов и звуков. Венчик крохотной гвоздики в этот раз и стал ключом моего счастья.
Гёте ошибся
Первый раз обратил внимание, что иволги поют на разные лады, и вспомнил мысль Гёте о том, что природа создает безличное, а только человек личен. Нет, я думаю, что только человек способен создавать наряду с духовными ценностями совершенно безликие механизмы, а в природе именно все лично, вплоть до самых законов природы: даже и эти законы изменяются в живой природе. Так не все верно говорил даже и Гёте.
Брачный день
Тихое солнечное утро. Предрассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где подстриг, но солнце очень скоро расстроило все его утреннее дело, все пустило в ход, и на припеке острия зеленой травы начали отделять свои пузырики.
Не знаю и не хочу знать, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, но в этот миг все пережитые мною весны стали мне как одна весна, одно чувство, и вся природа явилась мне как брачный сон наяву.
Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребенка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.
Это началось в далекой молодости, когда я был на чужбине, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью к Фацелии, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу – и душа отзывается, то на другой стороне, взамен, встал великий мир моей радости. Казалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живет красота и радость. Тогда я и вспомнил и узнал себя ребенком в природе. На чужбине родина моя показалась во всей своей пленительной силе, и вот, когда встала ярко первая встреча с природой, и родной человек в родной стране показался прекрасным.
Счастливые мгновения
Ранней весной до того непостоянно в природе, что радоваться можно только мгновеньями. Для всех грязь, ветер, стужа и дождь, но для избранных есть такие мгновенья, каких не бывает во всем году.
Ранней весной никому нельзя к погоде приспособиться: лови мгновенье, как дитя, и будь счастлив. А вся-то беда людей и состоит в том, что они привыкают ко всему и успокаиваются.
Ранней весной каждый раз мне кажется, что не я один, а и все могли бы быть счастливы и что счастье творческое могло бы сделаться религией человечества. Творческое… а какое еще бывает счастье? Я ошибся – не творческое, а просто счастье, потому что нетворческое счастье – это довольство человека, живущего за тремя замками.
Скрытая сила
Скрытая сила (так я буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм: моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, закрывающую рану. Мы бы ничего не знали о лесной смоле, если бы у хвойных деревьев не было врагов, ранящих их древесину: при каждом поранении деревья выделяют наплывающий на рану ароматный бальзам.
Так и у людей, как у деревьев: иногда у сильного человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола.
Мышь
Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай, как жить. И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышиные глазки-бусинки черные вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.
Со мной в юности было, как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял, и когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви.
Березы
Сквозь прелые листья и соломины пробивается зелень, лист жил, трава жила, и теперь, пожив хорошо, как удобрение переходят в новую зеленую жизнь. Страшно представить себя вместе с ними: понять ценность свою в таком обращении природы. Стоит мне что-нибудь выбрать, облюбовать, будь это лист, трава или вот эти две небольшие сестры-березки, как все, избранное мною, так же как и я сам, не совпадает в моем представлении с удобрительной ценностью их предшественников.
Избранные мною сестры-березки небольшие еще, в рост человека, они растут рядом, как одно дерево. Пока не распустились еще листья и надутые почки, как бусинки, на фоне неба видна вся тончайшая сеть веточек этих двух сплетенных берез. Несколько лет подряд во время движения березового сока я любуюсь этой изящной сетью живых веточек, замечаю, сколько прибавилось новых, вникаю в историю жизни сложнейшего существа дерева, похожего на целое государство, объединенное одной державой ствола. Много чудесного вижу я в этих березах и часто думаю о дереве, существующем независимо от меня и даже расширяющем мою собственную душу при сближении.
Сегодня вечер холодный, и я немного расстроен. Мне сегодня мои прежние догадки о «душе» березы представляются эстетическим бредом: это я, лично я, поэтизирую березки и открываю в них душу. На самом же деле нет ничего…
И вдруг при совершенно безоблачном небе на лицо мое сверху капнуло. Я подумал о пролетевшей птице какой-нибудь, поднял голову вверх: птицы нигде не было, а на лицо с безоблачного неба снова капнуло. Тогда я увидел, что на березе, под которой стоял я, высоко надо мной был поломан сучок и с него капал на меня березовый сок.
Тогда я, опять оживленный, вернулся мыслью к моим березкам, вспоминая друга, который в своей возлюбленной видел Мадонну; когда же с ней ближе сошелся, разочаровался и назвал свое чувство абстракцией половой любви. Много раз по-разному я думал об этом, и теперь березовый сок дал новое направление мысли о друге и его Мадонне.
«Бывает, – думал я, – человек не как мой друг поступает, бывает, человек, как я сам, вовсе не расстается со своей Фацелией и носит ее в себе, делая что-нибудь вместе со всеми, а любовь скрывая от всех. Но ведь где любовь, там и „душа“; и у возлюбленной и у березы».
И опять в этот вечер, под влиянием дождя березового сока, я видел, что у моих двух сестер-березок есть своя «душа».
Осенние листики
Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края, – что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки.
На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.
Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла – и заботливый хозяин убирает свой урожай.
Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.
Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце мое, как весной, наполнилось радостью, мне почудилось: я оторвался от нее, как лист, но я не лист, я человек. Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты ее, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.
Деревья в плену
Дерево верхней своей мутовкой, как ладонью, забирало падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершина березы стала гнуться. И случилось, в оттепель падал опять снег и прилипал к тому ко`му, и ветка верхняя с комом согнула аркой все дерево, пока, наконец, вершина с тем огромным комом не погрузилась в снег на земле и этим не была закреплена до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах. Рядом гордые ели смотрели сверху на согнутую березу, как смотрят люди, рожденные повелевать, на своих подчиненных.
Весной береза возвратилась к тем елям, и если бы в эту особенно снежную зиму она не согнулась, то потом и зимой и летом она оставалась бы среди елей, но раз уж согнулась, то теперь при самом малом снеге она наклонялась и в конце концов непременно каждый год аркой склонялась над тропинкой.
Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес: да ведь и невозможно войти. Там, где летом шел по широкой дорожке, теперь через эту дорожку лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать. Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз со всеми своими фигурами, дерево прыгает вверх и уступает дорогу. Медленно так я иду и волшебными ударами освобождаю множество деревьев.
Живой дымок
Вспомнилось, как вчера ночью в Москве я проснулся и по дыму в окне узнал время: был предрассветный час. Где-то из какого-то дома из чьей-то трубы выходил дымок, едва различимый в темноте и прямой, как колонна, дрожащая в мареве. И никого живого не было, только этот живой дымок был, и сердце мое живое волновалось, как этот дымок, и вся душа была вверх в полнейшей тишине. Так некоторое время, припав лбом к стеклу, я и побыл наедине с дымом в этот предрассветный час.
Борьба за жизнь
Время, когда березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я замечаю даже блеск хвоинок на тропе в лучах заходящего солнца и все иду, любуясь, иду без конца по лесной тропе, и лес мне становится таким же, как море, и опушка его, как берег на море, а полянка в лесу, как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, клесты и, наверное, еще много неизвестных мне существ. Внизу же под елями, как на черном ходу, все мрачно, и только смотришь, как летит шелуха.
Если пользоваться умным вниманием к жизни и питать сочувствие ко всякой твари, можно и здесь читать увлекательную книгу: вот хотя бы об этих семечках елей, падающих вниз при шелушении шишек клестами и белками. Когда-то одно такое семечко упало под березой между ее обнаженными корнями. Елка, прикрытая от ожогов солнца и морозов березой, стала расти, продвигаясь между наружными корнями березы вниз, встретила там новые корни березы, и своих корней елке некуда девать. Тогда она подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю. Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней со сплетенными корнями.
Движенье
Цветущий луг возле бочага. Я прислонил велосипед к дереву, а сам сел на бревно, мне захотелось после движенья собраться с мыслями. Движенье так выводит из себя, что не скоро и соберешься. Не в том состоит победа над машиной, что научаешься баранкой вертеть, а в том, что при всяком движении сохраняешь свою внутреннюю тишину. Ведь чем тише сам, тем больше замечаешь и ценишь движенье жизни.
Большая вода
Сказано у Гёте недвусмысленно, что, созерцая природу, человек все лучшее, о чем он говорит, берет из себя. Но почему же, бывает, подходишь к большой воде с такой мелкой душонкой, раздробленной еще больше какой-нибудь домашней ссорой, а взглянул на большую воду – и душа стала большой, и все простил великодушно?
Заметка на старость
Начиная с момента нашей посадки в Вежах на лодку и кончая приездом в Загорск, не было ни одного даже малейшего столкновения с людьми, и поездка прошла без сучка без задоринки. К старости надо твердо помнить, что всякая ссора со своими людьми, всякий «выход из себя» стоит чего-то себе, что это самое-самое бесполезное расходование самого себя, и этого надо бояться больше всего на свете: работа над этим есть что-то вроде необходимости перехода к растительной пище.
Пастушья свирель
Дни переходят в очень жаркие, но росы еще сильные, прохладные. Скотину стали выгонять рано и в полдень пригонять, спасать от слепней. Пастушья свирель имеет способность проникать в каждый дом и достигать каждой спящей души.
Сегодня мелодия проникла в меня, и я допустил для себя возможность удовлетворения жизнью совершенно простой, в которой настоящее добро выходило бы без всяких усилий, а прямо как непременное следствие жизни, которую ведешь для себя. А мое общение с человеком происходило бы в силу того, что хочется с человеком поговорить, хочется обласкать детей. Никаких подходов и загадов, все само собой должно выходить: внимания ждет человек, а не денег.
Бедная мысль
Внезапно стало теплеть. Петя занялся рыбой, поставил в торфяном пруду сети на карасей и заметил место: против сети на берегу стояло около десяти маленьких, в рост человека, березок. Солнце садилось пухлое. Лег спать: рев лягушек, соловьи и все, что дает бурная «тропическая ночь».
Только бывает так, что, когда совсем хорошо, бедному человеку в голову приходит бедная мысль и не дает возможности воспользоваться счастьем тропической ночи. Пете пришло в голову, что кто-то, как в прошлом году, подсмотрел за ним и украл его сети. На рассвете он бежит к тому месту и действительно видит: там люди стоят на том самом месте, где он поставил сети. В злобе, готовый биться за сети с десятком людей, он бежит туда и вдруг останавливается и улыбается: это не люди – это за ночь те десять березок оделись и будто люди стоят.
Поющие двери
Глядя на ульи с пчелами, летающими туда и сюда в солнечном свете: туда легкими, сюда обремененными цветочной пыльцой, – легко представляешь себе мир людей и вещей согласованных, вещей, обжитых до того, что они, как двери в «Старосветских помещиках», поют.
На пасеке я всегда вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя: в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле.
Circulus vitiosus
Когда-то я дивился, как не стыдно жить лысым, откуда берут они охоту и на что рассчитывают, расправляя нижние последние длинные волосы по всей лысине, примазывая их чем-то даже довольно прочно. Лысые, пузатые люди во фраках, старые девы с желтыми щеками, в бриллиантах и бархате. Как не стыдно всем им показываться при белом свете и рядиться в богатые одежды? Прошло два, три десятка лет, и мне пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл однажды их и сказал: зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина. И вот я мало-помалу совершенно примирился с лысиной. Я со всеми примирился недостатками… Примирился даже с утратой своей юношеской Фацелии. Лысые, пузатые, желтые, больные не беспокоят моего воображения, и только не могу еще перешагнуть через бездарных. Но думаю, что и талант тоже, как лысина: может талант пройти, писать не захочется, и с этим тоже помиришься. Ведь не ты же сам создал свой талант, у тебя это выросло, как густые волосы, и он тоже, если так оставить, вылезет, как волосы: писатель «испишется». Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом. Вот уж этого утратить нельзя, эта утрата незаменима: это уж не лысина, не брюхо, это я сам. И пока «я сам» существует, нечего плакать об утраченном; ведь говорят: «снявши голову, по волосам не плачут», значит можно сказать и так: «была бы голова, а волосы вырастут».






