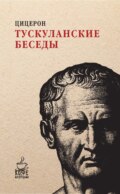М. Л. Гаспаров
О стихах
Поэтика русского романтизма пушкинской поры, лексика Жуковского и молодого Пушкина, стиль достаточно эмоциональный, чтобы волновать и нынешнего читателя, и в то же время достаточно традиционный, чтобы ощущаться классически величавым и важным. – вот основа, на которой сложилась переводческая манера Маршака. Вот чем определяются те границы его образной системы, за пределы которых он с таким искусством избегает выходить. Вот почему столь многое, характерное для Шекспира и Возрождения, оказывается в его переводе опущенным, затушеванным или переработанным.
Пора переходить к выводам.
Меньше всего мы хотели бы, чтобы создалось впечатление, будто цель этой статьи – осудить переводы Маршака. Победителей не судят; а Маршак был бесспорным победителем – победителем в двойной борьбе всякого переводчика; с заданием оригинала и с возможностями своего языка и литературной традиции. Таков приговор читателей и критики, и обжалованию он пока не подлежит. Да и нелепо было бы делить средства переводчика на дозволенные и недозволенные или требовать, чтобы он точно воспроизводил образ ради образа: достоинства перевода меряются не этим.
Для чего же была написана эта статья?
Во-первых, хотелось указать на следующее. Сонеты Шекспира в подлиннике читают у нас сотни любителей, но сонеты Маршака – миллионы. Если эти миллионы будут составлять свое представление о стиле Шекспира по стилю Маршака, они окажутся в затруднении. Спокойный, величественный, уравновешенный и мудрый поэт русских сонетов отличается от неистового, неистощимого, блистательного и страстного поэта английских сонетов. Английский Шекспир писал сонеты для друга и дамы, русский Шекспир – для нас и вечности. Это не отрицание заслуг Маршака. Переводы Жуковского из Шиллера – тоже драгоценность в сокровищнице русской поэзии. Но никто никогда не будет судить об идеологии Шиллера по переводам, куда Жуковский от себя вписывал строчки: «И смертный пред богом смирись» или «Смертный, силе, нас гнетущей, покоряйся и терпи». Об идеологии Шекспира по переводам Маршака судить можно, но о стиле Шекспира – никогда. Сонеты Шекспира в переводах Маршака – это перевод не только с языка на язык, но и со стиля на стиль. Читатель об этом должен быть предупрежден.
Во-вторых, чтобы призвать внимательнее исследовать технику Маршака-переводчика. Именно исследовать, а не отвлеченно восторгаться ею. Победителей не судят, но искусству победы у них учатся. Переводы Маршака могут нравиться или не нравиться, но учиться у них есть чему. И прежде всего редкому умению подобрать, организовать, подчинить единой цели все бесчисленные образные и стилистические мелочи перевода – умению, многочисленные примеры которого мы приводили выше. Это мастерство станет еще очевиднее, если сравнить работу Маршака с работой прежних переводчиков – Н. Холодковского, В. Мазуркевича, Ив. Мамуны или Эспера Ухтомского. Не надо думать, что они менее точны: если подсчитать поштучно отклонения от оригинала у них и у Маршака, то разница будет не так уж велика. Старые переводы были плохи не неточностью, а бесстильностью: там можно в одной строчке найти точнейшую передачу ярчайшего шекспировского образа, а в следующей – самый стертый и банальный поэтический штамп из арсенала надсоновского безвременья. Маршак стушует шекспировскую яркость, но никогда не допустит надсоновской тусклости; мало того, если он взял за образец романтическую лексику Жуковского, можно быть уверенным, что в нее не проскользнет ни слова из романтической лексики, скажем, Лермонтова: для чуткого слуха это уже будет диссонанс. Вот этой стилистической чуткости и должен учиться у Маршака всякий переводчик.
И, наконец, в-третьих, чтобы напомнить: нет переводов вообще хороших и вообще плохих, нет идеальных, нет канонических. Ни один перевод не передает подлинника полностью: каждый переводчик выбирает в оригинале только главное, подчиняет ему второстепенное, опускает или заменяет третьестепенное. Что именно он считает главным и что третьестепенным – это подсказывает ему его собственный вкус, вкус его литературной школы, вкус его исторический эпохи.
Собственный вкус Маршака – это сдержанность, точность, ясность, мягкость, это поиск внутренней глубины и отвращение к внешнему эффекту и блеску. Достаточно перечитать литературные статьи и заметки Маршака, чтобы в этом не осталось никаких сомнений. Литературная школа Маршака – это тот большой поэт, который в годы молодости Маршака едва ли не один стоял в стороне от бурных экспериментов русского модернизма, как строгий хранитель заветов высокой лирической классики: Иван Бунин. Маршак учился на классике, но классику он воспринял через Бунина, а не через Брюсова. «Бунин и Маршак» – тема, до сих пор даже не поставленная в нашем литературоведении, и, конечно, не в этой заметке ставить ее в полный рост, но будущему исследователю стихи Бунина еще многое откроют в раннем Маршаке-поэте, а переводы Бунина – в зрелом Маршаке-переводчике.
Наконец, эпоха Маршака – это время, когда схлынула волна литературных экспериментов, начавшая свой разбег с началом века, когда у нового общества явилась потребность в новой, советской поэтической классике, когда величественная законченность и уравновешенность, поддержанная высокими традициями прошлого, стала признаком литературного стиля эпохи. В 20-х годах Маршака не замечали, в 30-х о нем стали говорить: «Именно так надо писать для детей», в 40-х уже никто не сомневался, что именно так надо писать решительно для всех. В 40-е годы и явились перед читателем сонеты Шекспира в переводах Маршака. О вкусе эпохи Шекспира по ним судить нельзя, но о вкусе эпохи Маршака по ним судить можно и полезно.
Времена меняются, вкусы борются, эстетические идеалы колеблются; наступит пора, когда новое поколение захочет увидеть нового Шекспира, в котором главным будет то, что Маршак считал третьестепенным. И пусть этому поколению посчастливится найти переводчика, который создаст ему нового Шекспира с таким же мастерством, с каким Маршак создал того Шекспира, которого знаем мы.
Р. S. В советское время была выдвинута программа «реалистического перевода»: переводить нужно не литературные произведения, а ту действительность, которую отражали эти произведения. Эту программу сформулировал И. Кашкин, а наилучшим образом воплотил (еще до Кашкина) Б. Пастернак, когда «от перевода слов и метафор… обратился к переводу мыслей и сцен» (предисловие к переводу «Гамлета»). Совершенно тоже делал и Маршак, хотя «мысли и сцены» шекспировских сонетов выглядели для него совсем иначе, чем для Пастернака. Эта статья была написана совместно с Н. С. Автономовой для журнала «Вопросы литературы» (1969, N2), отсюда ее популярный стиль, вся проработка материала принадлежит Н. С. Автономовой, а основная мысль и словесное изложение – мне. О том, как эти (и другие) переводы вписываются в общую эволюцию творчества С. Маршака, мне пришлось писать в статье «Маршак и время» («Литературная учеба», 1994, № 6; статья ждала печати 25 лет). Имя Маршака в те годы, было окружено крайним пиететом, и такая статья о его переводах казалась подрывной; теперь, наоборот, когда художественные ценности 1940-х годов отменены, она должна казаться едва ли не апологетической. Может быть, это и не лишнее: новых переводов, притязающих сменить Маршака, явилось очень много («в журналы каждый день несут переводы сонетов Шекспира и каждые два месяца – полные переводы!» – говорил Е. Витковский), но ни один из них не дал такой законченности нового стиля, какой была у Маршака законченность старого стиля.
Брюсов-переводчик
Путь к перепутью
В истории литературы есть повторяющаяся роль: «побежденный учитель победителей-учеников». Он стоит у начала литературной эпохи, он проходит через долгий период уединенных экспериментов, переживает краткую пору громкой славы, а потом наступает некончающаяся полоса полууважительного пренебрежения: ученики оттесняют и затемняют учителя, и не всегда найдется между ними Пушкин, чтобы напомнить: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? «Пушкин этими словами заступался перед Рылеевым за Жуковского. Но таков был не только Жуковский. У начала русского XVIII века таким непризнанным учителем стоит Тредиаковский, а у начала XX века – Брюсов. Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака, кому кто нравится. Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского – или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. «Вы сами, было время, поутру линейкой нас не умирать учили», – писал от имени целого поколения Пастернак в своей юбилейной инвективе.
«…Κ тому же переводной слог его останется всегда образцовым», – продолжал Пушкин свою защиту Жуковского. Для поэтов эпохи больших культурно-поэтических переломов – и для Тредиаковского, и для Жуковского, и для Брюсова – переводы имели совсем особое значение. Русская литература развивалась стремительно, приходилось «и жить торопиться, и чувствовать спешить». В этом процессе переводы играли очень заметную роль. Это было рабочее подспорье, не более того: переводчиков в переводимом привлекало не столько величие авторов и слава произведений, сколько стройность мироощущения и отчетливость художественных средств. Именно поэтому Жуковский переводил больше из Уланда, чем из Шиллера, а Брюсов больше из Приска де Ландель, чем из Рембо; именно поэтому у Жуковского трудно провести грань между переводом и подражанием, а у Брюсова порой кажется, что некоторые «переводы» названы так лишь для отвода глаз.
Как для Жуковского последним словом европейской культуры был романтизм, так для Брюсова – символизм.
Рабочие тетради Брюсова 1890-х годов полны переводов из символистов и предсимволистов вперемежку с оригинальными стихотворениями. Первые изданные им книги, маленькие выпуски «Русских символистов», уже включали переводы из Эдгара По, Верлена, Рембо, Малларме, Метерлинка, Тальяда. Раньше чем выпустить первый сборник собственных стихов, он поспешил напечатать сборник переводов из Верлена – «Романсы без слов» (1894). Старый Верлен был еще жив, безвестный переводчик успел послать ему эту книжку на непонятном языке с четверостишием: «Еще покорный ваш вассал, я шлю подарок сюзерену, и горд и счастлив тем, что Сену гранитом русским оковал…» Даже в «Tertia vigilia» (1900), первой книге зрелого, классического Брюсова, среди «любимцев веков» рядом с брюсовским Ассаргадоном стоял «Соломон» Гюго, рядом с Клеопатрой – «Изольда» д’Аннунцио и рядом со скифами – норвежские моряки Верхарна. Брюсов ощущал эти стихи своими и относился к ним, как к своим. Поэтому потом, переиздавая отдельно свои переводы из Верлена и Верхарна, он с извинением писал, что на некоторые из них «надо смотреть не более как на подражание», а один его «перевод» из Метерлинка («Уныние») потом без всяких оговорок занял место среди оригинальных брюсовских стихов.
Молодой Брюсов переводил не поэзию, а поэтику. Он выхватывал из переводимого произведения несколько необычных образов, словосочетаний, ритмических ходов, воспроизводил их на русском языке с разительной точностью, а все остальное передавал приблизительно, заполняя контуры оригинала собственными вариациями в том же стиле. В его тетрадях остался любопытный опыт перевода одного сонета Малларме – сперва подстрочный, потом стихотворный: подстрочник сделан с удивительной небрежностью, самые простые слова переведены в нем неправильно, но Брюсов не обращает на это внимания – это лишь толчки для его собственной импровизации в стиле Малларме, в окончательный вариант эти оплошности вообще не попадут, от подлинника там останутся лишь одна строка в начале сонета, три в середине да несколько слов в конце, а все остальное будет собственным брюсовским упражнением в манере Малларме, очередным экспериментом его художественной лаборатории. (См. об этом нашу статью «Брюсов и подстрочник».)
В таком подходе к переводу Брюсов был не одинок среди современников, так же, как он, искавших путей к новой поэтике. Подобным же образом украшал Иннокентий Анненский если не все, то многие из своих фантазий на темы «парнасцев и проклятых»; подобным же образом Бальмонт переводил сплеча тома Эдгара По, Шелли и Уитмена, безукоризненно воспроизводя то, что ему нравилось в этих поэтах, и заменяя собственными вариациями то, что казалось ему в них недостаточно удачным; а Максимилиан Волошин даже в 1919 г., собрав в книгу свои переводы из Верхарна, считал необходимым в предисловии предупредить читателя, что в тех переводах, которые он делал по доброй воле, он считал возможным опускать верхарновские строки и добавлять свои, и только в нескольких переводах на заказ, к которым он был равнодушен, он старался быть точен.
Но Брюсов не был бы Брюсовым, если бы он остановился на таком интуитивном различении добра и зла в вопросах перевода. Его аналитический ум требовал осмысления стихийного опыта. Это осмысление касалось и материала, и метода его переводов.
Как только Брюсов к 1900-м годам вырабатывает собственный художественный стиль – стиль «Tertia vigil іа», «Urbi et orbi», «Stephanos», «Всех напевов», – прежняя потребность в переводческой лаборатории для него отпадает. Экспериментаторский интерес сменяется коллекционерским и просветительским: свой запас переводов он рассматривает уже не как сырье для собственного художественного производства, а как готовое изделие для читательского художественного потребления. Он пересматривает свои переводы, заменяет неудачные, восполняет пробелы, отделяет главное от второстепенного. Так составляется сборник «Французские лирики XIX века» (1909 и 1913), в котором пестрая россыпь имен больших и малых французских символистов упорядочивается по поколениям, снабжается биографическими и библиографическими заметками, превращается почти в историко-литературную хрестоматию. Из этой массы выделяются два имени, они теперь в центре брюсовского пантеона: это Верлен и Верхарн. Верлен был первой любовью Брюсова среди символистов, верность ему он сохранил до конца, и большой том брюсовских переводов из Верлена со статьями и примечаниями до сих пор остается одним из лучших изданий русского Верлена. (Только «одним из лучших», потому что вслед за Брюсовым с переводами Верлена выступил Ф. Сологуб, и книжечка его переводов была такова, что сам Брюсов, не любивший признавать поражений, заявил о его превосходстве; но славы первооткрывателя русского Верлена Брюсов не уступал никому.) Верхарн открылся Брюсову позже, к концу 1890-х годов, а по-настоящему зазвучал в его стихах в революционном 1905 году: и мятежность, и пафос, и трагизм великого бельгийского ритора обрели в русской поэзии такую революционную силу, какой они никогда не имели в контексте французской словесности. Брюсовский Верхарн остался образцовым: его переводили многие талантливые мастера и при жизни Брюсова, и после его смерти, здесь было много и удач и неудач, но интонация, стиль, строй всюду, даже при попытках отталкивания, оставались те, которые были заданы Брюсовым.
Как в выборе поэтов, так и в выборе приемов произвол уступает место обдуманности. Брюсов не собирается отказываться от своего способа перевода – от обычая переводить точно самые яркие художественные эффекты подлинника и приблизительно, по мере сил, – все остальное. Но он хочет дать себе отчет, почему ему кажутся самыми яркими в таком-то стихотворении такие-то черты, а в таком-то – совсем иные. И он отвечает: «Внешность лирического стихотворения, его форма, образуется из целого ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или менее полно чувство и поэтическую идею художника, – таковы: стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков… Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно – немыслимо. Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Но есть стихи, в которых первенствующую роль играют не образы, а, например, звуки слов («The Bells» Эдгара По) или даже рифмы (многие из шуточных стихотворений). Выбор такого элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод перевода». Это написано в 1905 г. в статье под броским заглавием «Фиалки в тигеле» (статья начинается фразой Шелли: «Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой – это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха»). Поводом для статьи был сделанный Г. Чулковым перевод «Песен» Метерлинка, где Чулков переводил преимущественно образы, а не «склад стиха и его движение». И Брюсов продолжает: «В «Песнях» Метерлинка важнее их склад, чем их образы. Переводчик «Песен» вправе и обязан ради сохранения их склада жертвовать точной передачей их образов. Вольным переводом этих «Песен» надо признать не тот, который удаляется от точного воспроизведения картин подлинника (если, конечно, замысел автора, «идея» песни и проникающее ее настроение сохранены), но тот, который разрушает особенности ее склада. Часто необдуманная верность оказывается предательством».
Это очень хорошее описание того, что есть доминанта в структуре художественного произведения и как по этой доминанте должен строиться перевод. Мысль Брюсова хорошо запомнилась переводчикам, слова его не раз цитировались и цитируются до сих пор – особенно последние слова насчет «необдуманной верности», которая оказывается предательством. Не удовлетворен ею оставался только сам Брюсов. Эта формула была хорошим оправданием того, что он уже сделал в переводе, но недостаточным выражением того, что он хотел бы сделать. А он хотел большего. И это была не самонадеянная прихоть, а задача, закономерно выдвигаемая временем.
Дело в том, что новая культурная эпоха проявлялась не только в стремлении приобщиться поскорей к последним достижениям европейского модернизма от Верхарна до Жюля Ромена. Она проявлялась и в потребности перечитать по-новому наследие прежних веков: Пушкина, Гёте, Данте, Вергилия. Во всех этих смолоду знакомых классиках сверстники Брюсова с легкостью видели то, чего не видели их отцы, – с одной стороны, таинственные прозрения, с другой стороны, изысканные стиховые и образные эксперименты. Эти новые открытия на старых местах им хотелось донести до современников. Самым простым средством к этому были бы новые переводы на смену старым. Но каковы должны быть эти новые переводы? «По доминанте», как это следовало бы по программе «Фиалок в тигеле»? Однако выявить доминанту в художественной структуре не современного, а давнего произведения, да еще такого сложного, как «Фауст» или «Божественная комедия», – задача исключительной трудности. Да и допускает ли эта задача единственное решение? Ведь все великие создания прошлого уже переводились не раз и по-разному, каждое новое поколение в истории культуры видело их «доминанту» в том, что было ему ближе, делало соответствующие переводы, а затем приходило следующее поколение с иным взглядом, оставляло прежние переводы и бралось за новые. Где ручательство, что понимание «Фауста» символистами не отживет так же скоро, как понимание его сперва романтиками, а потом реалистами, и что новый перевод по новой доминанте в свою очередь не устареет «на корню»? Ответ напрашивается один: классическую поэзию нельзя переводить так, как можно переводить поэзию новейшую: в новейшей поэзии можно непосредственным ощущением отличить главное от второстепенного и переводить одно точнее, а другое вольнее, в классической нет второстепенного, там все главное и все требует точного перевода. И чем дальше от нас во времени отстоит переводимое произведение, тем щепетильнее должны мы быть в этой точности. «Когда речь идет о переводе великих поэтов Эллады и Рима, – пишет Брюсов в 1913 г., всего лишь через восемь лет после «Фиалок в тигеле», – нам кажется необходимым передавать не только мысли и образы подлинника, но самую манеру речи и стиха, все слова, все выражения, все обороты; и мы твердо верим, что такая передача – возможна».
Это не значит, что прежний идеал перевода «по доминанте» отменяется, – это значит, что он раздваивается. Его программа предполагала точность в передаче главного и вольность в передаче второстепенного: выражаясь памятными словами Жуковского, в главном поэт-переводчик должен был быть «раб», во второстепенном – «соперник». Теперь эти две установки разъединились: путь привел к перепутью. В одну сторону он повел к идеалу абсолютной точности, в другую – как ни странно это звучит – к идеалу абсолютной вольности.
В самом деле, требуя от переводчика стать «рабом» великого подлинника, Брюсов и не думал запрещать ему «соперничество» с подлинником – он только отводил для этого соперничества четко обособленную область, область подражаний. У молодого Брюсова переводы неотличимо переливались в подражания – зрелый Брюсов ставит между ними непереходимую грань. Едва ли не впервые в истории русской поэзии он начинает разрабатывать поэтику подражания как специфического, внутренне определившегося жанра. В начале 1910-х годов одновременно с декларацией своей новой программы перевода Брюсов начинает работать над книгой «Сны человечества»: исполинским циклом стилизаций лирической поэзии всех веков и народов. Сюда должны были войти и некоторые переводы, но главным образом – именно подражания. («Исторической лирикой» – по аналогии с «историческим романом» – удачно назвал их В. Рогов.) В наброске предисловия Брюсов писал: «Мне хотелось бы… слагать стихи не так именно, как слагали их первобытные люди, поэты восточной и античной древности, поэты средних веков, эпохи Возрождения и веков следующих вплоть до нашего… – но так, как они хотели слагать стихи. В обладании всеми теми средствами, какие дает техника современной поэзии, я хотел бы досказать то, что они порывались выразить…» Более отчетливой программы тезиса «переводчик в стихах – соперник» невозможно и желать. Но называть это переводом Брюсов отныне отказывается.
Итак, подражанию предоставляется передавать то, что «порывались выразить» поэты прошлого; на долю перевода остается только то, что они действительно сказали, но зато и все то, что они действительно сказали, без смягчений, без исключений. Не «пересказывать подлинник», как делали переводчики скромные, не «соперничать с подлинником», как делали переводчики честолюбивые, а «заменять подлинник» – вот формула, которую выдвигает Брюсов. «Вопрос стоит раньше всего о переводе классических произведений… В таких переводах, с одной стороны, важно и дорого действительно каждое слово, почти – каждый звук слова; изменить что-либо в переводе почти всегда значит обесцветить и обезличить оригинал. С другой стороны, в таких произведениях почти каждое слово давало повод на протяжении веков к многочисленным комментариям, спорам, выводам; заменять одно выражение другим – значит нередко зачеркнуть целую литературу по поводу этого слова. Переводя такие произведения, необходимо быть крайне осторожным и постоянно помнить, что за каждой строкой, за каждым стихом стоит длинный ряд толкователей, подражателей и ученых, строивших на этой строке или на этом стихе свои теории» («О переводе «Энеиды» Вергилия», 1920).
Перед нами – развернутая и обоснованная программа переводческого буквализма. Буквализм – это не бранное слово, а содержательное научное понятие. Перевод всегда есть равнодействующая между двумя крайностями – насилием над традициями своей литературы в угоду подлиннику и насилием над подлинником в угоду традициям своей литературы. Насилие первого рода обычно и называется буквализмом; насилие второго рода иногда пытается именоваться творческим переводом. В истории перевода перевешивает попеременно то одна крайность, то другая: это так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой.
Перевод буквалистский рассчитан прежде всего на узкий круг ценителей, знакомых с подлинником, перевод творческий рассчитан на широкую массу читателей, впервые знакомящихся с подлинником через перевод. Перевод буквалистский часто вызывает насмешки: «Он становится понятен, только если положить рядом подлинник». Но разве мало есть переводов «творческих», которые, наоборот, если положить рядом подлинник, вдруг приводят в совершенное недоумение? «Буквалистский» еще не значит «плохой», «творческий» еще не значит «хороший»; удачи и неудачи возможны как на том, так и на другом пути в зависимости не от принципа, а от мастерства и вкуса. Брюсов тоже изведал и удачи и неудачи на избранном им пути буквализма; и так как он был экспериментатором-первопроходцем, то неудач у него было больше, чем удач.
Прежде всего была плодотворная неудача – перевод «Энеиды» Вергилия. Брюсов работал над ним всю жизнь, так и не успев его закончить, и от варианта к варианту перевод становился все последовательнее буквалистичен. Здесь каждый стих – решение отдельной задачи, исхищрение, цель которого – передать почти каждый образ, каждое слово, каждую аллитерацию подлинника; и в каждом стихе Брюсов достигает этой цели, но лишь за счет того, что теряется связь задач, связь стихов, и читать поэму подряд становится невозможно. Брюсову не удалось осуществить свою мечту – стать для Вергилия тем, чем стал Гнедич для Гомера, «переводчиком навсегда», но его титанический эксперимент не пропал даром: после него уже нельзя было переводить античных поэтов так, как до него, и пример его повлиял даже на практику таких переводчиков, которые вовсе не склонны к его теоретическим крайностям.
Затем была неплодотворная неудача – перевод «Фауста» Гёте. Брюсов подступался к этому труду еще в молодости, осуществил его в 1919–1920 гг., первая часть перевода вышла посмертно, вторая почти вся остается еще не изданной. Это неудача, потому что здесь слишком много буквализма, чтобы перевод был легок для читателя, и она неплодотворна, потому что здесь слишком мало буквализма, чтобы перевод был поучителен для писателя. Трудно отделаться от впечатления, что Брюсов был равнодушен к переводимому произведению: каждый стих здесь ставил перед переводчиком не меньше задач, чем в «Энеиде», но они не волновали Брюсова, и он не решал их, а обходил. Такой же неплодотворной неудачей был и другой труд, замысел которого Брюсов вынашивал смолоду, – полный перевод стихов Эдгара По, вышедший в год смерти Брюсова: отдельные стихотворения удались Брюсову замечательно, но основной массив перевода остался холоден и громоздок.
И наконец, была неплодотворная удача – переводы из армянской поэзии (главным образом народной и средневековой), этот подвиг 1915 года, открывший русскому – и не только русскому – читателю целый новый поэтический материк. Иногда говорят, что причина удачи в том, что Брюсов отошел здесь от буквализма к творческому переводу; это не так, по черновикам видно, как боролся Брюсов за то, чтобы донести до читателя каждое, буквально каждое слово даже не подлинника, а подстрочника переводимой вещи. «Поэзия Армении» Брюсова могла бы стать таким же нарицательным образцом пагубности буквализма, каким стала, например, «Энеида», если бы за нее неожиданно не подали свой решающий голос сами армяне. Хранители и ревнители своей поэзии, они больше всего справедливо желали, чтобы «то, что действительно сказали» их поэты, и было передано в переводе, а не только служило толчком к собственному творчеству переводчиков. Переводы Брюсова были ими единодушно признаны за образцовые. Эта слава за ними и осталась, их переиздавали, их хвалили, – но им не подражали. Переводы из армянской поэзии, делавшиеся русскими поэтами после Брюсова, не продолжают его буквалистических принципов, а примыкают к той технике «творческого перевода», которая по естественному ходу истории сменила у нас обычаи буквализма с середины 1930-х годов. Удача Брюсова осталась неплодотворной.
Мы должны ценить поэтов раздельно за их искания и за их достижения. Общепризнанные достижения Брюсова лежат на золотой середине между крайностями его исканий – это Верхарн, это Верлен, это «Французские лирики XIX века» в окончательных редакциях, это многие его переводы из поэтов разных стран и народов. Но и крайности его исканий тоже заслуживают внимания. Переводчики сегодняшнего дня могут найти неожиданно много близкого себе в практике самых ранних, самых вольных брюсовских переводов. А переводчики завтрашнего дня не пройдут мимо поздней буквалистической программы Брюсова и таких высоких ее образцов, как переводы из армянской поэзии.
Р. S. О злополучной брюсовской «Энеиде» мы написали отдельную статью «Брюсов и буквализм» (в сб. «Мастерство перевода», 8, М., 1971). Там говорилось, в частности, вот о чем. В истории русского стихотворного перевода сменилось пять периодов. XVIII век был эпохой вольного перевода, «склонявшего на русские нравы» и содержание и форму подлинников. Романтизм был эпохой точного перевода, приучавшего читателя к новым, дотоле непривычным образам и формам', таков Жуковский. Реализм XIX века опять стал эпохой вольного, приспособительного перевода – такого, как в курочкинском Беранже. Модернизм начала XX века вернулся к программе точного перевода', не обеднять подлинник применительно к привычкам читателя, а обогащать привычки читателя применительно к подлиннику: таков не только Брюсов, но и все его современники от Бальмонта до Лозинского. Наконец, советское время – это реакция на буквализм, спрос на ясность, легкость и традиционные ценности русской культуры, эпоха Маршака.
Легко увидеть: это близко соответствует пяти периодам истории всей русской культуры, пяти этапам распространения образованности в России. В этом процессе чередуются периоды распространения культуры вширь и вглубь. «Вширь» – это значит: культура захватывает новый слой общества быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не творческое преобразование. «Вглубь» – это значит: круг носителей культуры заметно не меняется, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, проявления ее более сложными. В XVIII е. шло распространение культуры вширь – в массу невежественного дворянства. В начале XIX в. было достигнуто насыщение, культура пошла вглубь и дала Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина XIX в. – новое движение культуры вширь: в массу невежественного разночинства. В начале XX в. и здесь достигнуто насыщение, культура идет вглубь и дает расцвет «серебряного века». После революции культура вновь идет вширь, в массу невежественных рабочих и крестьян. Движение это еще не закончилось, потребителями культуры являются очень разные слои общества, и они нуждаются в разных переводах.