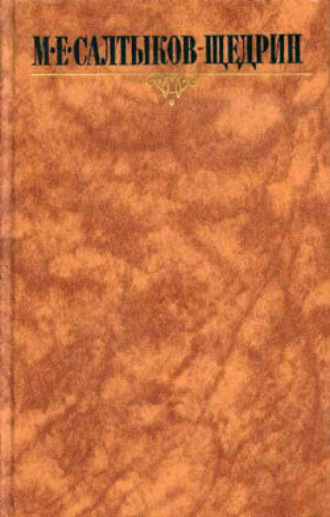
Михаил Салтыков-Щедрин
За рубежом
Что же касается до единения с народом, то это вопрос едва ли еще не более жестокий, нежели вопрос об исторических утешениях. Конечно, достигнуть или, точнее, представить себе это единение на манер тех испускателей трубных звуков, у которых нет ничего за душой, кроме высокомерного и суетного празднословия, очень легко; но действительное единение с народом, по малой мере, столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи, ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководительства и ласки, а самоотречения. Вы задаете себе задачу, мир, валяющийся во тьме, призвать к свету, на массы болящие и недугующие пролить исцеление. Но бывают исторические минуты, когда и этот мир, и эти массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они сами непостижимо упорствуют, оставаясь во тьме и в недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими 3. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказой, которая грозит его истребить.
Вот какие изумительные задачи выпали на долю среднего человека. С одной стороны, он обязывается завоевывать для истории утешения, а с другой – погружаться в тьму и примиряться с проказой. Добавьте к этому смертный бой ликующей современности, которая как-то особенно злобно привязывается именно к среднему человеку – и картина душевного благополучия будет полная. Я не говорю, что он преднамеренно и тщеславно берет на себя выполнение этих непосильных задач; напротив, они тяготеют над ним фаталистически, и он, даже при желании, не может ускользнуть от них. С каждым шагом вперед он идет навстречу ликующей современности, и не только не может защититься от нее, но не может и отступить. Жизнь защемила его в свои тиски и не выпустит до тех пор, пока не высосет всей его крови до последней капли. А затем выбросит в общую яму его труп и будет туда валить новые и новые трупы, из массы которых история, со временем, выработает свои "утешения".
* * *
Положа руку на сердце, говорю: меня мороз подирал по коже от этих мрачных дум. От времени до времени я заглядывал в окно и сквозь окрестную тьму различал вдали целые светящиеся города. То был промышленный уголок Бельгии с его неусыпающими фабриками и заводами. Вот то, где доподлинно добываются исторические утешения! думалось мне, и воображение рисовало целые картины процесса этого добывания. Да и единение с народом тут же кстати пристегнулось. С народом, повинным вечной работе и изнемогающим под игом тьмы и проказы! Поди-ка подступись к этому народу! Ты думаешь о наслаждениях мысли, чувства и вкуса, о свободе, об искусстве, об литературе, а он свое твердит: жрать! Не разнообразно, но зато как определенно! Вот он говорит, что книги истребить надо – войди-ка с ним в единение во имя истребления книг! А может быть, ему и фабрика с заводом не в утешение, а в тягость – что ж, и эта почва для единения не дурна! Как бы то ни было, но уж он не уступит! Кто в проказе – тот с ним, у кого нет проказы – тот против него! Коротко и ясно.
Ты хочешь единения с народом? – прекрасно! выбирай проказу, ложись в навоз, ешь хлеб, сдобренный лебедой, надевай рваный пониток и жги книгу. Но не труби в трубу, не заражай воздуха запахом трубных огрехов! Трубные звуки могут только раздражать, а с таким непочатым организмом, как народ, дело кончается не раздражениями, а представлением доказательств.
Но всероссийские клоповники не думают об этом. У них на первом плане личные счеты и личные отмщения. Посевая смуту, они едва ли даже предусматривают, сколько жертв она увлечет за собой: у них нет соответствующего органа, чтоб понять это. Они знают только одно: что лично они непременно вывернутся. Сегодня они злобно сеют смуту, а завтра, ежели смута примет беспокойные для них размеры, они будут, с тою же холодною злобой, кричать: пали!
Очевидно, тут речь идет совсем не об единении, а о том, чтоб сделать из народа орудие известных личных расчетов. А сверх того, может быть, и розничная продажа играет известную роль. Потому что, сообразите в самом деле, для чего этим людям вдруг понадобилось это единение? С чего они так внезапно заговорили о нем?
Я помню еще от лет детства, как наш сельский батюшка говаривал: всегда бывали господа и всегда бывали рабы, и впредь уповательно так же будет. Говорил-говорил батюшка, да вдруг пришел царь-освободитель и снял с рабов узы. И остался батюшка с носом. Но он не обиделся этим и, вынув из-за пазухи предику на тему "любите други своя", воскликнул: "Совершилось дело прелюбезное и для всех сердец равно благопотребное! С горних высот раздался глас: рабы да возвеселятся, помещики же да радуются! Размыслим же о сем, любезные слушатели, и для сего предложим себе два вопроса: первое, что сие означает? и второе, что сим достигается?" и т. д.
В сущности, наши консервативные клоповники твердо помнят только дореформенный батюшкин афоризм и хлопочут только об одном: о действительнейших средствах народного порабощения. Но они понимают, что как скоро раз сказано: "рабы да возвеселятся", то упрощенные батюшкины предики уже недостаточны, а главное, они знают, что встретят на пути противников, которым действительно ненавистно народное порабощение. Стало быть, прежде всего нужно упразднить этих людей, стереть их с лица земли, обрызгать "слюною бешеной собаки". А для этого необходимо сделать их подозрительными, дать им кличку, воспользоваться всеми неясностями и недоразумениями жизни, чтоб наплодить массу новых неясностей и недоразумений. И когда травля будет надлежащим образом организована, когда пробудившееся чувство исторической розни будет доведено до степени неразличения врагов от друзей, тогда…
Что будет тогда – клоповники сами не уясняют себе. Они не презирают в будущее, а преследуют лишь ближайшие и непосредственные цели! Поэтому их даже не пугает мысль, что "тогда" они должны будут очутиться лицом к лицу с пустотой и бессилием. Покамест они удовлетворены уже том, что ненавидеть могут свободно. И действительно, они ненавидят все, за исключением своей ненависти. Ненавидят завтрашний день, потому что тайна, которую он хранит в недрах своих, мешает им бездумно предаться удовлетворению инстинктов человеконенавистничества; ненавидят своих собственных детей, потому что видят в них пособников и соучастников завтрашнего дня. Собственно говоря, нельзя представить положения более ужасного. Быть осужденному на вечное омертвение и знать, что тут же рядом нечто страдает, изнывает, стонет, но все-таки живет – разве можно представить себе казнь более жестокую, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клокочущее самодовлеющей злобой существование?
Но для живущих дело не в том, чего достигают граждане клоповников, а в том, что бывают исторические минуты, когда их клеветы производят известный переполох в обществе. Мир, конечно, не погибнет от этих клевет, и история не перестанет созидать утешения; но отдельные индивидуумы могут погибнуть. Вот это-то именно и составляет ахиллесову пяту среднего человека. Видя, с какою безнаказанностью действует клевета, он начинает бояться, и в уме у него постепенно созревает деморализирующее "учение о шкуре". Но, раз деморализирован средний человек, деморализация уже делается достоянием всего общества. Все поголовно начинают усчитывать себя и припоминать; у всех опускаются руки, у всех начинают биться сердца беспредметной тревогой. Работа мысли перестает быть плодотворною и сосредоточивается исключительно на одном: на спасении "шкуры".
По совести говорю: общество, в котором "учение о шкуре" утвердилось на прочных основаниях, общество, которого творческие силы всецело подавлены, одним словом: случайность – такое общество, какие бы внешние усилия оно ни делало, не может прийти ни к безопасности, ни к спокойствию, ни даже к простому благочинию. Ни к чему, кроме бессрочного вращания, в порочном кругу тревог, и в конце концов… самоумерщвления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Было уже около шести часов утра, когда я вышел из состояния полудремоты, в которой на короткое время забылся; в окна проникал белесоватый свет, и облака густыми массами неслись в вышине, суля впереди целую перспективу ненастных дней. Мой vis-a-vis тоже проснулся, и я не без смущения заметил, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это был человек средних лет, скорее молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, не безобразный, но с сильным выражением приказной каверзности в лице, так что я тотчас же мысленно надел ему на голову фуражку с кокардой и форменное пальто. Такое выражение лица нередко встречается у земцев (он и действительно оказался таковым), которые когда-то служили в столоначальниках и ошиблись в надеждах на дальнейшую бюрократическую карьеру. Люди эти слывут в земстве дельцами, сочиняют формочки с бесчисленным множеством граф, называют себя консерваторами, хвастаются связью с землею, утверждают, что «русский мужичок не выдаст», и приходят в умиление от «Московских ведомостей». Нельзя сказать, чтоб они были положительно противны, но известная ограниченность мешает им различать добро от зла. Потому они всегда смотрят в одну точку, говорят одним и тем же тоном одни и те же слова, мыслят азбучно, но с сознанием благонадежности своих мыслей и бесконечно надоедают всем авторитетностью и изобилием пустяков. По-видимому, этот человек узнал меня.
– В Париже побывали? – спросил он меня с напускною развязностью земского человека, который, памятуя, что он в некотором роде исполняет должность пятого колеса в колеснице государственного механизма, не хочет, чтоб его заподозрили, что он чем-нибудь стесняется.
– В Париже, – отвечал я.
– Поездили? погуляли?
– Так же, как и вы.
– Воротитесь домой, что-нибудь в смешном роде напишете?
– Может быть, и в смешном…
Он с минуту помолчал. Ответы мои не удовлетворяли его: почему-то он ждал, что я перед ним, земцем, откроюсь. Потом он уперся руками в колени и опять в упор посмотрел на меня. Именно тем взглядом посмотрел, который говорит: а вот я смотрю на тебя – и шабаш!
– Однако, вы любите-таки посмеяться…
Он откинулся спиной к стене купе и ждал. Но я молчал.
– А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать, 4 – продолжал он, все пристальнее и пристальнее вглядываясь в меня, как будто поставив себе задачею запечатлеть в своей памяти не только слова мои, но и выражение лица.
– Рады стараться!
– Вот видите, вы и теперь шутите. А ведь я, право, не шутя говорю: пора.
– Да, сколько помнится, я никогда пьяных слов и не говорил.
– И опять шутите! Я вам говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о каких-то пьяных словах…
– В таком случае отвечу вам яснее: по крайнему моему убеждению, все слова, которые я когда-нибудь говорил, были трезвенные.
– Будто?
– Именно. Только надо знать грамоте и понимать, что читаешь – вот что прежде всего.
– Гм…
Он на минуту смолк, однако ж не сконфузился.
– Я, знаете, тамбовец; земец я… – начал он, как бы желая этим сказать, что стоит выше грамотности.
– Отлично.
– Вам, может быть, странным кажется, что я так прямо с вами заговорил?
– Да, странно.
– Но мы живем в такое время, когда церемонии-то приходится сдать в архив.
– Не вижу надобности.
– Право, так… а?
– Повторяю вам: не вижу надобности.
Но, по-видимому, и эти ответы не удовлетворили его, потому что он довольно-таки строго покачал головой и с расстановкою произнес:
– Однако, вы… не патриот!
Земцы вообще прилипчивы и самодовольны, но они редко бывают недоброжелательны. Дома, в своих захолустьях, они с утра до вечера суетятся и хлопочут: покупают новые умывальники для больниц, чинят паромы, откладывают до будущей сессии вопрос о мелком поземельном кредите, о прекращении эпизоотии, об оздоровлении крестьянских жилищ и проч., и так как все это им удается, то они чувствуют себя совершенно довольными. Набегаются день-денской, у всех побывают, со всеми поговорят, везде закусят, а к ночи, усталые, воротятся домой и засыпают до следующего утра. Понятно, что при таких условиях не может быть речи о недоброжелательном отношении к ближнему. Веруя искренно в свой жизненный подвиг, земец и ближнего своего не решается заподозреть в неверии.
Потому что тут дело ясное: вот он, рукомойник – смотри!
Но последнее трудное время, по-видимому, тронуло даже эту душевную ясность. Земцы начинают подозревать и озираться. Рукомойники остаются нелужеными, паромы дают течь, потому что земец решил, что это дело второстепенное и что прежде всего следует смотреть вглубь. Вот он и смотрит; смотрит да смотрит, и вдруг фигу увидит. Взволнуется, побежит и начинает шевелить бровями. И все разом бровями зашевелят – ужасно у них это серьезно выходит. Пошевелят и порознь и вкупе – и опять фигу увидят… Нельзя сказать, чтоб это было страшно, но как-то бестолково и неполезно. По крайней мере, я лично очень жалею, что на наших глазах переводится наивная и добродушная порода людей, вполне довольных получаемым ими содержанием.
Сидевший передо мной экземпляр земца 5, вероятно, и прежде уже таил в себе семена недоброжелательства; но события последнего времени еще более обострили в нем это качество. Он не просто смотрел вглубь, но потщился укрепить свой ум чтением передовых статей. Представление о рукомойниках и паромах он, по-видимому, совсем уж утратил и весь погрузился в дела внутренней политики. При этом, вероятно, вновь зароились в его мозгу и прерванные честолюбивые мечты столоначальника-неудачника. Представилась возможность не только наверстать потерянное, но и получить рубль на рубль. Творчество – не в ходу; зато на подозрительность – требование. В прежнее время он был бы рад-радехонек, если б его почтили хоть местом начальника отделения; теперь он смотрит уж выше. Даже исконную земскую неряшливость он уж успел стряхнуть с себя. Прежде он ездил в третьем классе и комкал свои пожитки в узел; нынче он в первом классе едет, и в руках его блестит лакированный мешок; прежде он умывался только через день; нынче он даже поясницу каждодневно моет казанским мылом. Вообще при взгляде на этого человека впечатление получалось колючее. До такой степени колючее, что когда он усомнился в моем патриотизме, то мне как-то невольно пришло на мысль: а ведь он, пожалуй, возьмет да вдруг…
– Вы, может быть, опасаетесь, что я закричу караул? – продолжал он, прозорливо комментируя мысленные тревоги, отражавшиеся в моем лице.
– Здесь я не опасаюсь этого, потому что за такой подвиг вас, наверное, высадят на станции.
– А в Вержболово, например?
Я должен был ожидать этого вопроса; но есть вопросы, которых всегда ожидаешь и которые всегда же застают врасплох. Я спасовал и сдался на капитуляцию.
– Спрашивайте, – сказал я.
– Прежде всего разуверьтесь, – начал он, – я человек правды – и больше ничего. И я полагаю, что если мы все, люди правды, столкуемся, то весь этот дурной сон исчезнет сам собою. Не претендуйте же на меня, если я повторю, что в такое время, какое мы переживаем, церемонии нужно сдать в архив.
– Ах, что вы! да разве я думал?..
– То-то-с. По моему мнению, мы все, люди добра, должны исповедаться друг перед другом и простить друг друга. Да-с, и простить-с. У всякого человека какой-нибудь грех найдется – вот и надобно этот грех ему простить.
– Ах, боже мой! да ведь это и есть моя мысль!
– Ну-с, так это исходный пункт. Простить – это первое условие, но с тем, чтоб впредь в тот же грех не впадать, – это второе условие. Итак, будем говорить откровенно. Начнем с народа. Как земец, я живу с народом, наблюдаю за ним и знаю его. И убеждение, которое я вынес из моих наблюдений, таково: народ наш представляет собой образец здорового организма, который никакие обольщения не заставят сойти с прямого пути. Согласны?
– Но разве можно сомневаться в том?
– Прекрасно. Несмотря, однако ж, на это, несмотря на то, что у нас под ногами столь твердая почва, мы не можем не признать, что наше положение все-таки в высшей степени тяжелое. Мы живем, не зная, что ждет нас завтра и какие новые сюрпризы готовит нам жизнь. И все это, повторяю, несмотря на то, что наш народ здоров и спокоен. Спрашивается: в чем же тут суть?
Я ничего не ответил на этот вопрос (нельзя же было ответить: прежде всего в твоих безумных подстрекательствах!), но, грешный человек, подмигнул-таки глазком, как бы говоря: вот именно это самое и есть!
– В том суть-с, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живет изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления; одним словом, вливая отраву и разложение в наш свежий и непочатый организм. Спрашивается: на каком же основании и по какому праву эта лишенная почвы интеллигенция приняла на себя не принадлежащую ей роль руководительницы?
Я опять хотел было подмигнуть глазком: но на этот раз он смотрел на меня в упор и ждал. Поэтому я решился ответить ни да, ни нет.
– Удивительно, как вы плавно говорите! – польстил я ему.
– Прекрасно, – отвечал он. – А теперь спрашивается: что необходимо предпринять, чтоб устранить это растлевающее влияние? чтоб вновь вдвинуть жизнь в ту здоровую колею, с которой ее насильственно свела ложь, насквозь пропитавшая нашу интеллигенцию?
Он опять остановился, но на этот раз уже не для того, чтоб выждать от меня ответа, а для того, чтобы дать, так сказать, вылежаться фигуре вопрошения, которую он так искусно пустил в ход. Он даже губы сложил сердечком, словно сам себе подсвистать хотел.
– Ответ на этот вопрос простой, – продолжал он, – необходимо вырвать с корнем злое начало… Коль скоро мы знаем, что наш враг – интеллигенция, стало быть, с нее и начать нужно. Согласны?
Признаюсь откровенно: как я ни был перепуган, но при этом вопросе испугался вдвое ("шкура" заговорила). И так как трусость, помноженная на трусость, дает в результате храбрость, то я даже довольно явственно пробормотал:
– Прекрасно. Но, помнится, в девяностых годах прошлого столетия некто Марат именно такого рода целебные средства предлагал…6
– То-то вот и есть, что вы всё иностранных образцов ищете! – нимало не смущаясь, прервал он меня. – Марат! что такое Марат?! И какое значение может иметь Марат… для нас?
Тогда я опять понял, что в известных случаях прежде всего необходимо соглашаться, и, разумеется, поспешил исправить свою ошибку.
– Еще бы! – сказал я с увлечением. – Марат! что такое Марат?! там, у себя, он был Марат, а у нас, вероятно, был бы коллежским асессором!
– То-то вот и есть. Надо говорить дело, а вы… Марат!! Нас, батюшка, Маратами-то не удивишь! Итак, первое дело – побоку интеллигенцию; второе дело – побоку печать!
Но при слове "печать" мне опять сделалось тяжко, и я уже совсем бессознательно проговорил:
– Но Гутенберг…
– Что такое Гутенберг?
. – То есть не Гутенберг… а собственно говоря… Позвольте! не лучше ли было бы печать-то простить, а вот, например, суды, земство… их бы вот…
– Суды – всенепременно-с. Но земство – земля-с. Земли касаться не следует-с.
– Ну да, земство – это так, – оправдывался я, – здоровое земство и за ним здоровый народ… И затем, ежели принять в соображение присвоенные земским деятелем оклады…
Я хотел было развить мою мысль, как вдруг случился совершенно неожиданный скандал. Один из наших спутников, вероятно, увидел отличнейший сон и на чистейшем русском диалекте закричал: Ай люли! ай люли!
Это восклицание разом перерезало наш разговор. Собеседник мой обиделся и проворчал:
– Нарезался… свинтус!
Но я, признаюсь, был обрадован, потому что с этими земцами, как ни будь осторожен и консервативен, наверное, в конце концов в чем-нибудь да проштрафишься. Сверх того, мы подъезжали к Кёльну, и в голове моей созрел предательский проект: при перемене вагонов засесть на несколько станций в третий класс, чтоб избежать дальнейших собеседований по делам внутренней политики.
– В Кёльне сядемте опять вместе, – обольщал меня между тем мой vis-a-vis, – я уверен, что мы наверное столкуемся. Слушайте! – прибавил он с увлечением, – вы должны! вы непременно должны трезвенное слово сказать! это ваша нравственная обязанность!
– Ай люли! ай люли! – опять запел беспокойный сосед и на этот раз сам проснулся от звуков собственного голоса.
– Фляжку-то не стибрили у тебя? – продолжал он, обращаясь к своему vis-a-vis, тоже проснувшемуся, – а я, брат, должно быть, переспал… инда очумел!
Через десять минут мы были в Кёльне.
* * *
Я выполнил в Кёльне свой план довольно ловко. Не успел мой ночной товарищ оглянуться, как я затесался в толпу, и по первому звонку уж сидел в вагоне третьего класса. Но я имел неосторожность выглянуть в окно, и он заметил меня. Я видел, как легкая тень пробежала у него по лицу; однако ж на этот раз он поступил уже с меньшею развязностью, нежели прежде. Подошел ко мне и довольно благосклонно сказал:
– В народ идти пожелали?.. Ну, и прекрасно! Только попомните мое слово: необходимо, чтоб вы трезвенное слово сказали! Увидимся… в Вержболове!
Он удалился скорым шагом по направлению к своему вагону, но слова его остались при мне и заставили меня задуматься. За минуту перед тем я готов был похвастаться, что ловко отделался от назойливого собеседника, но теперь эта ловкость почему-то представилась мне уже сомнительною. А ну, как вместо ловкости-то я собственными руками устроил себе западню? – смутно мелькало у меня в голове.
Земец, коль скоро ему раз вступило в голову, – что он консерватор, делается строг до непреклонности. На всякое возражение он смотрит, как на противодействие, и ежели, на беду, заподозрит при этом еще иронию, то готов мстить до седьмого колена. Говоря безотносительно, эта мстительность была бы не очень-то страшна, но то-то вот и есть, что времена-то нынче переходчивые: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Смотришь на него, как он усами шевелит, думаешь, что он в каком-нибудь Цивильске на вечные времена погрузнул, а на поверку окажется, что он только нырнул там, а вынырнул-то вон где! Ты ему там не потрафил, а он тебя тут учтет, да еще так учтет, что небу жарко будет.
Разумеется, при помощи сметки и очень большого запаса осторожности, можно и это дело обладить. А именно: всякому встречному стараться попасть в тон, польстить, оказать услугу, сказать при случае: как это вы с такими способностями да в чертовой дыре засели! Только чересчур уж много хлопот это требует. Ведь нынче и не сочтешь, сколько этих "встречных" развелось. Всех не переслушаешь, всякому не накланяешься. Поди угадай, которого полезно очаровать и про которого можно сказать: а ты, по-прежнему, продолжай в Пирятине смердеть!
Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю: который из них суженый мой? которого мне умницей и красавчиком назвать? Если б можно было всем огулом крикнуть: здорово, молодцы! – это было бы сейчас готово; но ведь они самолюбивы, и каждый непременно требует, чтоб его назвали "молодцом" особо.
Смешай-ка его с массой других "молодцов" – он обидится, будет мстить; а попробуй каждого останавливать, перед каждым изъясняться – ей-богу, спина переломится, язык перемелется. Да, пожалуй, еще скажут: вот, мол, сума переметная, ко всякому лезет, у всех ручку целует! должно быть, в уме какое-нибудь предательство засело, коли он так лебезит!
Но все-таки, если раз судьба уж свела с прохожим или проезжим – держи его крепче за фалды! Нужды нет, что он прямо из-под Наровчата выскочил, все-таки слушай его и удивляйся мудрости его соображений. Самое лучшее: слушай и не возражай – прохожие это любят. Можно, однако ж, и возразить, но так, чтоб, благодаря возражению, мудрость еще рельефнее выступила – это они тоже любят. А всего больше любят раскаянье. Они будут на бобах разводить, а ты сиди и раскаивайся. Можешь даже слегка наклепать на себя – и это в заслугу сочтется. Был, дескать, я разбойником печати 7, неповинные души погублял, а теперь с тобой, наровчатским мудрецом, посидел – и вот, я весь тут. Никогда они этих ласковых твоих слов не забудут. Потому что, в сущности, они добрые, исключая, разумеется, тех минут, когда задыхаются от злобы. И вот, когда ты подметишь, что он в твою пользу размяк, тогда уж не плошай. Следи за ним, где он нырнул, в которую сторону побежала струя, и где можно предположить, что он вынырнет. Но при этом имей в виду и следующее: если он слишком долго ныряет, то легко может случиться, что течение вновь прибьет его к наровчатским трясинам, а там он уж окончательно пойдет ко дну. Тогда, делать нечего, лови другого прохожего мудреца, к другому примазывайся.
А что, если мой недавний собеседник возьмет да вынырнет? – думалось мне. Ведь он меня тогда с кашей съест! Что я такое? много ли нужно, чтоб превратить мое бытие в небытие? Хотя, с другой стороны, на какую потребу мне бытие? вот так бытие! Так не лучше ли сразу погрузиться в небытие, нежели остаться при бытии, с тем чтоб смотреть в окошко да улыбаться прохожим?
И ведь какую задачу мне задал этот проезжий мудрец: скажи ему трезвенное слово – шутка! Он будет закусывать да усы в очищенной мочить – а я перед ним навытяжке стой и трезвенные слова говори… шутники!
Право, мне до сих пор совсем искренно казалось, что я никогда никаких других слов, кроме трезвенных, не говорил, а вот отыскался же мудрец, который в глаза мне говорит: нет, совсем не того от тебя нужно. Но что-нибудь одно: или я был постоянно пьян, и в таком случае от пьяного человека нечего и ждать трезвенного слова; или я был трезв, а те, которые слушали меня, были пьяны. А может быть, они и теперь пьяны.
Ужасно мудрено иметь дело с пьяными ценителями. Говори ему, вразумляй, взывай к его совести, пробуждай в нем самосознание, кричи ему: проспись, пьяница! – а его только тошнит в ответ. А именно это-то и случается сплошь и рядом. Пьяный не возражает и не опровергает, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этих афоризмов уследить невозможно, а между тем он так самодовольно долбит ими, точно в них, и только в них одних, заключается патент на дальнейшее существование. "Нет, вы не патриот!" – поди разгрызи этот камень! Спроси его, что он разумеет под словом "патриот"? – он, вместо ответа, повторит: нет, вы не патриот! Спроси, почему он именно в данном случае формулирует упрек в недостатке патриотизма? – он и опять повторит: нет, вы не патриот! Да, пожалуй, еще глазком подмигнет, бездельник. Ужасно очутиться лицом к лицу с этой глухой стеной. Сама по себе, стена есть только стена; но сознание, что нельзя от нее отойти, действует на человека необыкновенно мучительно. Весь дрожишь от боли и все-таки стоишь.
Вот если б он сказал: не нужно, мол, никаких ваших слов, ни пьяных, ни трезвенных – это, по крайней мере, было бы складно. Да, пожалуй, оно к тому и придет. Общество погрузилось с некоторых пор в такую смуту, что и само не разберет, пьяно оно или трезво. К кому обращаться с словом-то? – вот ведь к какому мы вопросу пришли. Будь слово самое трезвенное, все-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуют его в пьяном смысле; будь слово самое пьянственное – те же пьяницы будут плескать руками. Велика должна быть сладкая привычка говорить, если даже такая дремучая смута не в силах заставить человека добровольно погрузиться в тину молчания! Но откуда взялась эта привычка? зачем?
Поймите же, пьяницы, сколько нечеловечески горького заключается в этих вопросах, и как должен быть измучен человек, который предлагает их себе! Ведь слово-то дар божий – неужто же так-таки и затоптать его? Ведь оно задушить может, если его не выговорить!.. Но раз подобные вопросы возникли, никакого другого ответа на них нельзя ожидать, кроме бесповоротного осуждения. И небо и земля, и движение, и жизнь – все исчезает; впереди усматривается только скелет смерти, в пустой череп которой наровчатский проезжий, для страха, вставил горящую стеариновую свечку.
Я невольно вспомнил: не дальше как в июле, три месяца тому назад, я ехал за границу, и спутниками моими были Удав и Дыба. Не скрою: не понравились мне тогда эти люди. Городят какие-то двусмысленности, не то либеральничают, не то "жамкнуть" собираются. Наслушаешься их – точно пустую бочку то вскатишь на гору, то опять с горы спустишь. А теперь с какою благодарностью, можно сказать, даже с любовью я помянул их! Так бы, кажется, и не наслушался музыки их речей, кабы бог привел опять на распутии встретиться! Даже об ТвэрдоонтС всплакнул и у того некоторые словечки были…
Сравните их с этим не помнящим родства Маратом, которого я только что оставил, – и вы сразу почувствуете, как из области не особенно блестящей, но все-таки человеческой, переноситесь в область чистейшего истуканства. Интеллигенцию – побоку, печать – побоку; суды – побоку; с чем же жить-то останетесь? Земство покуда еще пощадил – жалованье ему оттуда выдают; но дай срок! когда он вынырнет, он и земству копоти задаст. Он в солнце кишку пожарной трубы направит, чтоб светило умереннее. И все-таки мне не столько солнца жалко, сколько печати. Солнца-то, я знаю, не усмирить, а печать… чик! и нет ее!
Удав и Дыба были довольно разнообразны в выборе сюжетов для собеседования и, сверх того, обладали кой-какою фантазией. Напротив того проезжий Марат однообразен до утомительности и беден фантазией до нищенства. За душой у него всего один медный грош, и он даже не старается ввести насчет его в заблуждение. Он прямо и всенародно ставит его ребром, как бы говоря: вот вам грош, и знайте, что другого у меня нет.
Удав и Дыба охотно склонялись на сторону "подтягиванья", но, отстаивая это мировоззрение, они отчасти обставляли его теоретическими соображениями, отчасти ссылались на обстоятельства и вообще как бы слегка стыдились. Грустно, мол, но делать нечего. Проезжий Марат хотя тоже до краев преисполнен "подтягиванья", но уже у него нет ни обстановок, ни ссылок, ни стыда, так что "подтягиванье" является совершенно самостоятельною бессмыслицей, не имеющей ни причин, ни предмета.
Склоняясь на сторону "подтягиванья", Удав и Дыба тем не менее не отрицали, что можно от времени до времени и "поотпустить". Проезжий Марат не только ничего подобного не допускает, но просто не понимает, о чем тут речь. Да он и вообще ни о чем понятия не имеет: ни о пределах власти, ни о предмете ее, ни о сложности механизма, приводящего ее в действие. Он бьет в одну точку, преследует одну цель и знать не хочет, что это однопредметное преследование может произвести общую чахлость и омертвение.







