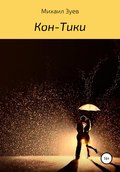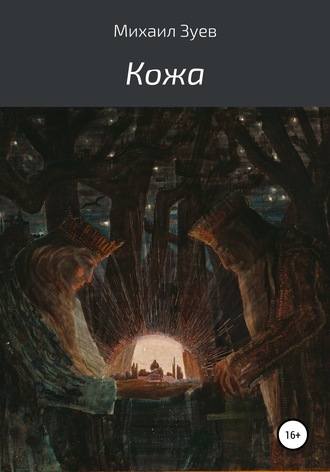
Михаил Зуев
Кожа
Ц. С. К. А. Огромные, в два человеческих роста, объемные буквы выросли прямо из земли.
– Нам сюда, – сказал он.
– Купальник давай! – ответила она.
Он вышел на бортик, посмотрел на колышущуюся кристально чистую голубую – а, может быть, зеленоватую, воду – и остановился.
Она выпорхнула из раздевалки на другой стороне бассейна. Копна золота, небесно-голубое бикини, немного загара на бедрах – и тонкие-тонкие, длинные-длинные, нежные-нежные пальцы.
– Прыгай, – негромко позвала она, и голос ее, столкнувшись со стенами, потолком и медленно колышущейся водой, заиграл нервными осколками – как блики отраженного света.
– Я иду, – ответил на ее зов он, и сильным сальто назад ввернул свое тело в воду.
– Тебе хорошо? – спросил он, когда она, обдав бортик бассейна веером брызг, упала в воду рядом с ним.
– Не знаю, – коснулась его лица взглядом цвета бикини она.
Когда она вышла из раздевалки, он сделал ей шаг навстречу, и сказал:
– У тебя же совсем мокрая голова.
– У меня нет полотенца, – почему-то потупилась она.
– У меня есть, – сказал он и осторожно стал вытирать ее чудные золотые волосы.
Возле метро «Аэропорт» они остановились. Он ощутил ее дыхание на своей щеке.
– У меня муж, – сказала она, глядя поверх его плеча.
– А у меня никого, – ответил он.
Не глядя ей вслед, он развернулся, и медленно перешел на бульвар.
Он подошел к маленькому снеговику, открыл пакет, достал еще теплый купальник, приладил его на снежную фигурку, и через минуту монотонно двинулся по бульвару – пока его высокая фигура с опущенными плечами не скрылась из вида.
VI. [СНЕЖОК]
Я сидел в машине. Я сидел лицом вполоборота к дороге.
Это было там, под мостом. Под тем самым мостом, где гудят и присвистывают шальные электрички, где разворачиваются на кругу медлительные толстые троллейбусы, где снег скрипит под ногами торопливых прохожих.
Я ждал.
С проезжавшего мимо шумного копотливого грузовика, с самой крыши брезентовой фуры, упал снежок. Он упал на слякотную мостовую, таким по-детски маленьким, нетронутым, беззащитным холмиком. Щепоткой прохлады и чистоты.
Большой неуклюжий урчащий теплым электрическим чревом троллейбус развернулся, почти касаясь крыла моей милой «старушки». Его дутые колеса с чавканьем месили грязь, оставляя за собой жирные полосы с четкими отпечатками протектора. Но они не тронули моего снежка. Снежок остался; такой же чистый и нежный, такой же небесный, такой же воздушный.
Я ждал.
И опять, и снова. Их было много. Было много, много-много машин, троллейбусов, электричек, людей. Все они жужжали, скрипели, катились, покачивались, перемешивали соленую грязь, вышагивали по мостовой. А мой снежок остался. Он лежал беззащитной легкой щепоткой. Он не таял.
Я ждал.
Я лишился времени. Лишился пространства. Должно быть, кончилась тоскливая зима. Отшумела весна. Я лишился тела. Лишился чувств. Я только ждал.
Нас было двое. Снежок и я. Снежок не таял.
А я ждал Тебя.
VII. [ЧЕТЫРЕ ИЗМЕРЕНИЯ АННЫ ИВАНОВНЫ МАТЦЕНГЕР]
Первое измерение Анны Ивановны с одной стороны ограничено желтой в разводах стеной бывшей гимназии напротив. В окнах, когда наступает день, отражается робкое, а потом – полное солнце. Окна бликуют безумием полудня, или разговаривают с тусклыми тучами осени, или просто ровно светятся шарами люстр в высоких просторных классах. Когда же день близится к закату, окна бывают матовыми, бархатными, и, если внимательно присмотреться, отражают высокое близкое серое небо. Иногда окна отделяются от взора гремящими мимо под уклон трамваями, под которые мальчики подкладывают капсюли, расцветающие веселыми взрывами из-под колес, и это вызывает добрую улыбку Анны Ивановны, и громкий мат недовольных вагоновожатых.
Первое измерение с другой стороны ограничено беленой стеной маленькой комнатенки в покосившемся бараке. На пути первого измерения существует старая рассохшаяся дверь, и два оконца почти у самой земли, и ванна с облупившейся эмалью, стоящая прямо в закутке прихожей, который – по странному стечению обстоятельств – оказывается еще и кухней.
Второе измерение Анны Ивановны даже короче первого. В нем, от стены до стены барачной квартирки, укладываются небольшой кухонный столик с притулившейся рядом вешалкой, произведенной в одна тысяча девятьсот десятом году в Петербурге; древний, еще бабушкин сундук с фотографиями и пожелтевшей перепиской из Питера, Парижа и Ниццы начала последнего безумного века; копия Венеры Милосской высотой около метра, притулившаяся в углу; дверка из прихожей в комнатку; комод красного дерева, бережно хранящий элегантные отутюженные дамские туалеты; обитый растрескавшейся кожей диван с дюжиной слоников и высокой спинкой, выполненной в виде полочки с дверками, хранящей немало секретов, накопившихся за восемь десятков лет жизни; портреты родителей, молодого блондина-шведа на палубе и с трубкой в зубах; поблекшие фотографии сестер и самой Анны. Еще же, от стены до стены в пространстве второго измерения живут стол и полдюжины стульев, старая металлическая кровать, украшенная блестящими шарами, пальмочка в кадке, да толстая всегда сонная кошка.
Третье измерение Анны Ивановны сейчас ограничено дощатым полом и беленым потрескавшимся потолком в двух с половиной метрах над полом, с элегантной люстрой горного хрусталя, сделанной в Ницце в тысяча девятьсот тринадцатом году. Но третье измерение помнит и Воробьевы горы в Москве, и смотровые площадки Эйфелевой и Пизанской башен, и расхристанные бестолковые дома Манхэттена, и уютные улочки Сан-Франциско, и дом нескольких медовых лет в Стокгольме. Оно помнит высоту мостика корабля, на котором швед-блондин с трубкой в зубах уходил в бушующее море, всегда уходил, чтобы вернуться. Оно помнит низкие казематы питерского нового порядка, и внутренний дворик вонючей тюрьмы, и расстрел, когда быдлацкая морда хрипела – «огонь!», – а грязные заскорузлые руки дружно жали на спусковые крючки трехлинеек, и смеялись от удовольствия вершителей судеб, стреляя в женщин и детей все же холостыми. Третье измерение Анны Ивановны помнит высоту нар колымских бараков, и пустое серое небо, когда было сказано, что никто не виноват, и все это было ошибкой. Третье измерение перекликается с первым и вторым, пытаясь найти могилу когда-то молодого шведа с трубкой в зубах, с которым были медовые годы в Стокгольме, но – не находит, и не найдет никогда.
Четвертое измерение Анны Ивановны безгранично. Оно начинается в колыбели; продолжается голосом отца, читавшего Пушкина долгими зимними вечерами; сменяется внутренним голосом, декламирующим Ахматову и Блока; оно полнится тихим шепотом молодого блондина-шведа с трубкой в зубах – «люблю!»; из него, как из песни слова, не выкинуть грязной ругани лагерных вертухаев, не забыть казенных слов и серых, грязной типографской краской отпечатанных похоронок. Оно завершается – да, и это известно – оно уже весьма скоро завершится любовью, спокойствием и покоем, в котором снова будут – в один единый вечный миг – и Париж, и Ницца, и Питер, и молодой блондин-швед с трубкой в зубах, и…
Но это потом. Не сейчас. А пока в четвертом измерении Анны Ивановны есть люди – много людей, спешащих или бредущих по захолустной улочке старого южного городка; и людей этих обгоняют трамваи с матерящимися вагоновожатыми, и дни сменяются вечерами, и воздух наполнен пьянящим ароматом последней весны.
А каждый день, за исключением воскресенья, мимо проходит, непонятно почему – здороваясь, маленький мальчик; в восемь – в школу, в три – из школы; и он улыбается Анне Ивановне, и Анна Ивановна улыбается ему, тому мальчику, кто даже полвека спустя не сможет забыть улыбку Анны Ивановны Матценгер.