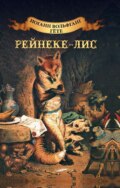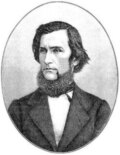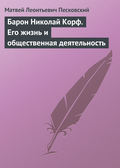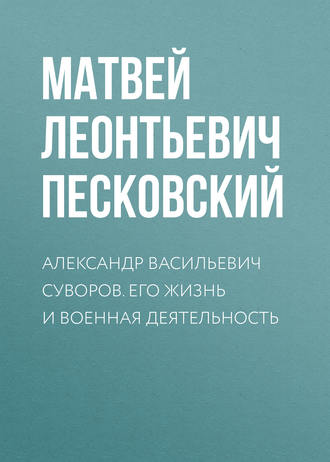
Матвей Леонтьевич Песковский
Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и военная деятельность
У последнего была только узкокорыстная цель, чтобы урвать какую-либо часть Италии на свою долю. Вот почему и план, предложенный Суворову четырьмя членами гофкригсрата, и инструкция, врученная на прощальной аудиенции императором Францем, в сущности сводились к тому, чтобы ограничить военные действия Аддою. Но так как Суворов, считая такое распоряжение нелепостью, с первых же дней сделал несравненно больше, то одновременно с тем, как он сообщал венскому кабинету свой военный план относительно всего Итальянского полуострова и последующих действий, венская тугутовская камарилья, в свою очередь, послала ему дерзкое подтверждение “ограничивать главные действия левым берегом По”. Но прежде чем получить это “подтверждение”, Суворов перешел По и сделал это, как мы знаем уже, под влиянием неотвратимых, безотложных обстоятельств и условий на театре войны. Тугут же и К. не унимались, натравили на Суворова императора Франца с требованием, чтобы Суворов не предпринимал ничего, не испросив предварительно разрешения венского кабинета, то есть иначе – все того же Тугута. Конечно, Суворов не исполнил, не мог и не должен был исполнять этого возмутительного требования после предоставленной ему “полной самостоятельности” на театре войны. Если бы, например, Суворов послушался тупоголовой венской камарильи, он несомненно был бы положительно уничтожен под Требией со всем союзным войском. Но, тем не менее, в Вене злобствовали на Суворова за его непокорность нелепым и вредным внушениям, и так грубо и недостойно вели себя в отношении этого гениального полководца, что даже не поблагодарили его за победы при Требии, столь важные для австрийцев.
Вскоре после победы при Требии, убедившись в полной безвредности армии Моро, не сумевшей подоспеть вовремя, а затем трусливо втянувшейся в горы и прятавшейся там, Суворов сделал распоряжение о немедленной осаде Мантуи, которая сдалась 19 июля. Ни одна победа Суворова не встречалась в Австрии с такой горячей радостью, как взятие Мантуи, с которой венская камарилья приставала к Суворову во все время, чуть не с начала кампании. Тем не менее, Тугут и К., недовольные Суворовым за неисполнение их идиотских распоряжений, так ловко обошли императора, что Суворов даже и на этот раз остался без всякой награды со стороны Австрии, даже без всякого выражения благодарности!.. Зато император Павел возвел Суворова в княжеское достоинство, ститулом Италийского, в “воздание за славные подвиги”. Притом Павел выразил Суворову удивление, что “Римский (австрийский) император трудно признает услуги (Суворова) и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск”.
Это замечание ободрило Суворова и поддержало давнее его намерение – продолжать наступление по своему плану, на свой личный страх и риск. Мнение Павла важно было для Суворова, так как, чем более разрастались его победы, тем недостойнее и возмутительнее становилось отношение к нему венского двора.
Черная неблагодарность австрийцев распространялась не на одного только Суворова, но и на все русские войска, самоотверженно сражавшиеся за австрийские интересы и так горько бедствовавшие во все время кампании, вследствие гнуснейшей недобросовестности австрийского интендантства. Дело дошло даже до того, что высочайшие повеления из Вены посылались австрийским войскам непосредственно, помимо Суворова, без его ведома. Под влиянием столь прискорбных и возмутительных обстоятельств Суворов, наконец, решил бросить так блистательно веденное им дело и отправиться домой. 25 июня он отправил в Петербург прошение, в котором просил Павла об отозвании его в Россию.
Эта просьба объяснила, наконец, императору Павлу истинные причины тех неудовольствий, о которых так много ходило слухов. Он категорически просил Франца II принять меры, чтобы гофкригсрат не давал самостоятельно предписаний главнокомандующему, так как это неизбежно должно повести к самым гибельным последствиям. В рескрипте же Суворову от 31 июля государь безусловно предоставил дальнейшие военные операции “искусству и уму Суворова”, то есть дал ему полную самостоятельность. Гофкригсрат же так распустился, что совершенно произвольно, ни с чем не справляясь, порешил считать военные действия на полуострове законченными. Суворов был особенно возмущен самоуправством и ошибочностью этих распоряжений, так как ему достоверно было известно о новой грозе – о наступлении неприятеля…
Он обратился ко всем австрийским генералам не только с приказанием, но и с просьбой – “спешить всеми распоряжениями, не останавливаясь никакими жертвами”, и дал им на это десять дней сроку. Главным же местопребыванием Суворова, после войны при Требии, была Александрия, куда и созывались все военачальники. Тревога была как нельзя более уместна. Французская директория из побед Суворова уразумела, что этому полководцу “несомненно открыт путь” в Париж. Ввиду этого итальянской армии дали нового главнокомандующего, генерала Жубера, человека глубоко просвещенного, обладавшего громадным военным дарованием и замечательным мужеством. Ему не было еще 30 лет, но он около трех лет уже состоял главнокомандующим и пользовался большой любовью и популярностью в войсках. Директория же предписала ему “безотлагательное наступление”.
Как только Суворову стало известно о передвижениях французских передовых постов в Апеннинах, он понял, что готовится наступление. Со своей стороны, Суворов решил начать наступление 4 августа, но его предупредили французы. На рассвете, 3 августа, одно крыло французской армии подошло к Нови. Стоявший там отряд Багратиона отступил с легкой перестрелкой, как было ему приказано ранее. Точно так же не было оказано препятствий и другому крылу, а потому французы беспрепятственно соединились на позиции.
Жубер приехал в армию еще 24 июля. Моро, передав ему войска, тем не менее, остался при армии, предложив своему преемнику содействие на первых порах, что и было принято им с благодарностью. Появление Жубера сильно подняло дух французских войск. Ввиду этого он намеревался немедленно броситься на союзные войска. Но его предупредили, что под Александрией – весьма многочисленная армия (около 65 тысяч человек). У Жубера же было всего 35 тысяч человек; но чрезвычайно выгодная позиция на возвышенностях уступами в несколько раз увеличивала силу его армии. Тем не менее, когда он, беспрепятственно заняв эту позицию, выехал 3 августа на высоты у Нови и окинул взором армию союзников, – он сразу догадался, что тут – вся армия, что с осадой почти всех крепостей дело кончено. Им овладело беспокойство с примесью отчаяния. Он созвал военный совет, который высказался за отступление в ожидании содействия альпийской армии. Но ввиду многочисленности союзной армии и отступление было крайне опасно. Жубер обещал через два часа прислать диспозицию к отступлению. Но время шло, – и он ни на что не решился. Ему все казалось, что отступить должен именно Суворов…
Но все боевое поприще Суворова прошло в поражении неприятелей, занимавших всегда наиболее выгодные позиции. Суворов с самого утра 3 августа был на коне и разъезжал по войскам, неожиданно появляясь то в одном, то в другом месте, внушая войскам, что французов надо выманить с гор в чистое поле и побить; а если они не пойдут, – идти к ним и побить их в горах. Ожидая начала боя с минуты на минуту, он лично сам произвел рекогносцировку неприятельской позиции. Он, в сопровождении лишь одного казака, выехал к своей передовой цепи, находившейся на близком ружейном выстреле от неприятельской, и поехал вдоль ее. Французские генералы, смотревшие в подзорные трубы, узнали Суворова по его одежде, состоявшей из рубашки и полотняного исподнего белья. Неприятельская цепь открыла сильный огонь. Позади ее стала собираться кавалерия… Суворов спокойно повернул назад и возвратился в наилучшем расположении духа, с полной уверенностью в победе.
Бесполезно прождав нападения весь день, Суворов назначил атаку на следующее же утро (4 августа), чтобы не дать неприятелю возможности ни уйти, ни укрепиться на позиции. Созванный им военный совет хотя считал атаку в высшей степени рискованной и опасной, но, именно ввиду опытности и дарований своего главнокомандующего, признал ее возможной. 4 августа, еще до рассвета, началась атака правого неприятельского крыла. Раздавшаяся перестрелка сразу уничтожила все надежды Жубера. Он поскакал в цепь застрельщиков и был убит пулею наповал. Командование армией принял на себя Моро.
Бой велся с ожесточеннейшим упорством с обеих сторон. По нескольку раз возобновлялись атаки, но, после временного успеха, обыкновенно отбивались, кроме одного неприятельского крыла, где была одержана уже полная победа. Страшный зной истомил войска, так что некоторые падали от расслабления и жажды; даже легкораненые умирали от изнурения. В первом часу Суворов прекратил бой, чтобы дать войскам отдых. После двухчасового отдыха и подкрепления сил, в 3 часа дня вновь завязался бой с еще большим ожесточением и напряжением сил с обеих сторон, причем вся французская артиллерия, помещенная на высотах, открыла адский огонь. Но теперь Суворов получил подкрепление в 8 тысяч человек, благодаря чему союзные войска после упорнейшего и кровопролитного боя тоже взобрались, наконец, на высоты и даже зашли в тыл неприятелю. В 6 часу вечера началось отступление французов, вскоре обратившееся в бегство по всем направлениям. Их гнали, рубили, забирали в плен целыми группами. Только наступившая ночь положила конец этому. Войска, истомленные более чем полусуточным беспрерывным и упорным боем, заночевали на самом поле сражения.
Государь почтил Суворова рескриптом в самых лестных выражениях о том, что он как главнокомандующий “поставил себя выше награждений”. Но государь все-таки нашел награду, притом самую лестную для фельдмаршала. Высочайше повелено, чтобы все войска даже в присутствии государя отдавали Суворову воинские почести, следующие по уставу только особе императора.
Глава XI. Беспримерная слава, опала и смерть. 1799 – 1800
Всеобщее прославление Суворова. – Вероломство и предательство Австрии. – Швейцарская экспедиция как сплошной победный путь. – Победа над французами и над коварством австрийцев. – Возвращение в Россию. – Опала. – Смерть
Победа при Нови изумила всю Европу, придала имени Суворова еще больший блеск, сделала его всесветной знаменитостью, предметом всеобщего изумления и даже благоговения всей антиреволюционной Европы. Сардинский король Карл-Эммануил, например, сделал Суворова “великим маршалом пьемонтских войск и грандом королевства, с потомственным титулом принца и кузена короля”. Турин поднес Суворову золотую шпагу, осыпанную драгоценными камнями, с благодарственной надписью. Асти, где поселился Суворов и провел три недели после окончательного разгрома французов при Нови, сделалось в некотором роде местом паломничества. Туда являлись не только путешественники, но и люди, нарочно прибывшие, чтобы взглянуть на непобедимого полководца, побеседовать с ним, пожать ему руку. По поводу отличий, пожалованных Карлом-Эммануилом, Павел писал:
“Через сие вы и мне войдете в родство, быв однажды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собой все почитаются роднею”.
Помимо Италии и России, в Англии тоже Суворов был первой знаменитостью эпохи, любимым героем. Кроме ежедневно появлявшихся газетных статей о нем, выходило очень много особых брошюр серьезного и юмористического характера, жизнеописаний, карикатур и прочего. Выдумывание особых “суворовских” пирогов, причесок, шляп и прочего доказывает, что имя Суворова в Англии было предметом выгодной моды и спекуляции. В честь его в театрах пели стихи, за обедом ежедневно провозглашали тосты во дворцах, ресторанах и хижинах. Его изображения получили повсеместное распространение в Европе.
Но чрезвычайно резкое исключение представляет в этом отношении Австрия. Она больше всех была обязана Суворову – и игнорировала его заслуги. Даже и для кричащей победы при Нови не было исключения. Венский кабинет не только отнесся к ней со своей обычной напускной холодностью, но сделал даже и возмутительную дерзость, послав Суворову “повеление”, в котором доказывалась “бесцельность” победы при Нови. Это сделано с целью оскорбить Суворова, чтобы скорее избавиться от него, так как его присутствие мешало захвату чужих земель. В этих видах Австрия “подстроила” соглашение союзников, чтобы в Италии оставались только австрийские войска, русские же перешли бы в Швейцарию. Стараясь как можно скорее запрятать русскую армию в Швейцарию, австрийцы, вместе с тем, обставили ее такой системой вероломства и предательства, которая обрекла армию на самые ужасные бедствия во все время пребывания ее в Швейцарии.
Согласно, например, новому распределению союзных войск, в Швейцарию, ранее прибытия туда войск Суворова, должен был вступить корпус Римского-Корсакова (около 30 тысяч человек). Находившиеся же в Швейцарии австрийские войска под начальством эрц-герцога Карла, обязаны были вовсе очистить Швейцарию от французов и ни в каком случае не уходить из страны до полного сбора русских войск, назначенных в Швейцарию. Но австрийцы провели в Швейцарии все время в бездействии. Едва же успел вступить корпус Корсакова, как венский кабинет предписал эрц-герцогу немедленно вывести свои войска из Швейцарии, оставив, таким образом, русский корпус в беспомощном положении перед неприятельской армией около 80 тысяч человек. По этому поводу от Павла I последовал рескрипт, в котором Суворову давалось полномочие на все могущие произойти случаи и признавалось нужным, “по овладении всеми крепостями в Италии, соединить все русские войска в Швейцарии и действовать оттуда – куда и как заблагорассудит”.
Другим же рескриптом Павел сообщил в Вену, что он вынужден отделить свои войска от австрийских и предоставить им независимое действие в Швейцарии под начальством Суворова. В конце же рескрипта добавлено:
“Весьма желаю, чтобы император римский один торжествовал над своими врагами, или чтобы он снова убедился в той истине, столь простой и семилетним опытом доказанной, что, для низложения врага, бывшего уже раз у самых ворот Вены, необходимы между союзниками единодушие, правдивость и в особенности искренность”.
Замечательно, что не прошло и года после этого, как австрийцы были окончательно разгромлены французами и сразу потеряли все завоевания, приобретенные для них Суворовым…
Войска Суворова получили возможность отправиться 31 августа в Швейцарию к С.-Готарду. Они шли налегке; все же их тяжести были отправлены кружным путем к определенным пунктам. Но, совершенно неожиданно, явилось весьма серьезное затруднение по вине австрийцев. Готовясь к выступлению из Италии, Суворов просил австрийское интендантство снабдить русские войска мулами для горного прохода, так как их было изобилие у австрийцев. Дав мулов только под горную артиллерию, интендантское ведомство уверило, что им сделаны уже должные распоряжения, и мулы будут ожидать русских в Белинцоне. Назначив атаку С.-Готарда на 8 сентября, Суворов намеревался быть на месте 6 сентября. Но, прибыв форсированным маршем в Таверну 4 сентября, он был до крайности оскорблен и поражен известием, что вместо ожидавшихся 1 430 мулов – ни одного!.. Наконец пришло несколько сот мулов, но и те были законтрактованы только до Белинцоны, так что их пришлось переконтрактовать на весь поход, то есть платить столько, сколько пожелают погонщики. Потом еще прибавилось несколько сот мулов. В путь можно было тронуться только утром 10 сентября, то есть на два дня позже срока, назначенного для атаки С.-Готарда. Потеря же каждого часа болезненно отзывалась в душе Суворова, мучительно трепетавшего за судьбу войск, попавших по недоразумению в Швейцарию раньше времени. Между тем и весь последующий его путь представлял собой сплошное препятствие самой крайней степени, притом опять-таки всецело по вине австрийцев.
Мы говорим о плане швейцарской кампании, необычайно сложном и как бы намеренно рассчитанном буквально на непроходимые препятствия. Удовлетворительным считается, например, путь по Швейцарии через Сплюген, Кур и Сарганс, который и выбрал Суворов. Но австрийцы навязали ему план движения через С.-Готард, в долину Рейсы. Суворов считал себя даже не вправе оспаривать план, предложенный ему австрийцами, имевшими давние сношения с Швейцарией и долженствовавшими хорошо знать эту страну. Ввиду этого, сама разработка плана была поручена офицерам австрийского генерального штаба, то есть лицам, у которых должна быть даже и специальная подготовка в отношении Швейцарии. Наконец выработанный таким образом план похода был на заключении у троих австрийских военачальников (Штрауха, Готце и Линкена), находившихся на швейцарской территории. На поверку же план этот оказался диким, невообразимым вздором и вымыслом самого низкопробного свойства, отмеченным печатью вероломства и предательства, как это и увидим ниже.
Главные силы Суворова (корпусы Багратиона и Дерфельдена) тронулись 10 сентября из Таверны к Белинцоне; Розенберг же из Белинцоны двинулся по реке Тичино. Погода была ужасная; шел проливной дождь при сильнейшем ветре. Люди выбивались из сил, срывались и разбивались в пропастях. Тем не менее, в трое суток пройдено 75 верст, и отсталых было весьма немного. Дух войск был наилучший. Суворов неотлучно был между солдатами, в первых их рядах, представляя собой пример первого солдата армии. Начиная с Таверны и до конца похода, при нем неотступно находился 65-летний старик, Антонио Гамма, хозяин гостиницы, где квартировал Суворов. При первом же знакомстве с непобедимым полководцем Гамма почувствовал к фельдмаршалу такое влечение, что бросил все решительно, несмотря ни на какие отговоры семьи отправился сопутствовать ему, служил иногда проводником и вообще принес войску немало пользы.