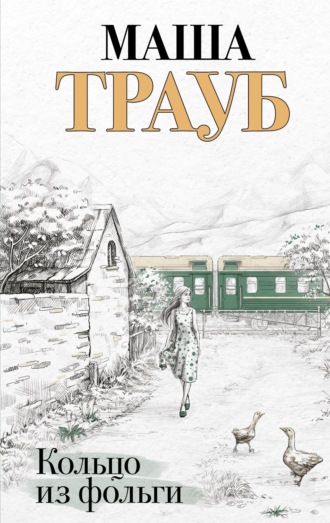
Маша Трауб
Кольцо из фольги
* * *
Лучше всего я помню дом, в который мы с бабушкой переехали уже в конце ее жизни. Она тогда вышла замуж, что стало для мамы настоящим ударом. Бабушка позвонила и попросила приехать на свадьбу. Мама отказалась наотрез. Объявила, что и меня, бабушкину единственную внучку, больше к ней не отпустит. До сих пор не могу понять, что так маму испугало. Бабушка не была богатой вдовой, жила в казенной квартире, никаких накоплений не имела, так что корыстный мотив со стороны новоявленного супруга заподозрить было сложно.
– Зачем? – снова и снова кричала в трубку мама, пытаясь добиться аргументированного ответа в пользу неожиданного и весьма скоропалительного замужества. Она накручивала телефонный провод на руку так, что я не знала, как его потом размотать. Мама почти в узел его завязывала.
– Чтобы у Маши свой дом был, – твердила бабушка.
Думаю, именно это ею и двигало. Мы жили в крошечной квартирке двухэтажного дома, правда, в самом центре села. Но двор – общий, бетонированный. Бельевые веревки тоже общие, как и палисадник. А тут – свои веревки, свой палисадник и большой огород. Курятник, кошки, персиковое дерево и два вишневых. А еще черешневые – с белыми и красными плодами. В жару можно спать на улице под деревом, на общем дворе так спокойно не поспишь. Или в любой момент пойти на огород и сорвать луковый стебель. Макнуть в солонку и сжевать. Пойти в курятник и достать из-под курицы яйцо. Сделать яичницу или омлет или сковырнуть ногтем нежную скорлупу, сделать небольшую дырочку и выпить здесь же, в курятнике.
И совсем невиданная роскошь – две комнаты, разделенные всегда теплой стеной, потому что в доме печка. Большая, просто огромная. И кухня не одна, а две – летняя и зимняя отдельными домиками. Летняя большая, светлая, просторная. Там стоит большой стол. А зимняя – маленькая, уютная, тоже с печкой. В ней, именно в зимней, стоит утюг, на столе лежат одеяло и простыня. Снизу одеяло, сверху – простыня. Для глажки. В углу – здоровенный таз и ковш. Мылись тоже на зимней кухне, даже летом. От печки и воды становилось душно. Из-за пара ничего не видно. Но пар легкий, не удушающий. Не как в бане и не как в сауне. Когда я впервые оказалась в хамаме, вдруг замерла – такой же пар, как был на зимней кухне. Те же ощущения. Бабушка сильно трет мочалкой, чтобы докрасна и кожа горела. Поливает из ковша, велит стоять ровно, но вода все равно льется и в таз, и на пол. Капли падают на раскаленные конфорки печи. Шипят, испаряясь. Потом все нужно вытереть досуха. Кухня ведь на земле стоит, без фундамента. Вода закончилась. Пока новую натаскаешь да подогреешь…
– А как же ты? – спрашиваю я у бабушки.
– Так я в твоей помоюсь, – смеется она. – Это же самая ценная вода, которая от ребенка осталась. Самая чистая.
Я знаю, что это не так. Просто у нее нет сил опять идти на колонку и снова таскать воду. Та, что есть, – уже на утро. Умыться, приготовить чай.
Бабушка моет меня земляничным мылом. Хранит кусок, никому не разрешает его брать. Это – ребенкино. Как и полотенце, постельное белье, тарелки, чашки, столовые приборы. Не обычные, из местного сельпо, а из набора. Того, который только по большим праздникам достают из серванта. Соседки считают это странностью. Выделять отдельное ребенку? А потом что она попросит? Может, еще комнату отдельную? Бабушка смеется.
У меня своя комната, так решила бабушка. Мне это совсем не нравится. Я не могу привыкнуть, что бабушка спит за стеной. В старой квартире мы спали вместе. Две кровати стояли вдоль стен, друг против друга, а между ними, перед окном, – стол. Я открывала глаза и видела, как бабушка сидит за столом и пишет. Чайник кипел тут же, в углу, оборудованном под кухоньку, за занавеской. Плитка на одну конфорку. И умывальник там же.
Мылись в сараях. Они стояли во дворе, похожие на гаражи для машин. В этих сараях рыли погреба, хранили закрутки на зиму. Тазы, веники, раскладушки – тоже в сараях. Вечером доставали раскладушку и белье, ставили в квартире, утром убирали. Детские люльки, стулья, которые выносились, когда праздновали свадьбы или собирались на поминки. В каждом сарае стояли сундуки. Сарай был даже не складом, а настоящей пещерой с сокровищами. Во всяком случае, именно в виде сарая я представляла себе пещеру разбойников из сказки про Али-Бабу.
Кто-нибудь из соседок доставал люльку и передавал ее молодой матери. Там же, в сундуке, обнаруживались пеленки-распашонки. И все знали – в этой люльке лежал Тамик, а эти ползунки шили для Зариночки. Все соседи доставали из сараев детское приданое и передавали семьям, в которых случилось пополнение. Потом все стиралось, полоскалось в пяти водах, отутюживалось непременно дважды и с двух сторон и складывалось назад, в сундуки. До следующего младенца. И вновь доставалось, вновь перестирывалось в пяти водах и отутюживалось. Иногда пеленки и ползунки и пары дней в сундуках не успевали пролежать, а все равно – сакральный процесс подготовки к встрече малыша оставался неизменным. Вычистить, выдраить, перестирать, ошпарить крутым кипятком.
Вслед за этим выносили игрушки, лошадок, связанных крючком кукол. Нарядные платья, колготки, рейтузы, теплые кофты, рубашки и штаны, перешитые из взрослых костюмов. Еще спустя время из сараев доставали мячи, школьную форму, нарядные туфли, банты, портфели. Детей растили всем двором. Даже платье или костюм на последний звонок и выпускной можно было не покупать – у кого-нибудь из соседей обязательно найдется нужного размера. А если не найдется, перешьют. И будут плакать от счастья – «моя Ниночка в этом платье на выпускной ходила, а Алик в этом костюме такой красивый был, совсем взрослый». Так же было и на праздники – из подвалов доставали банки с огурцами, компоты, варенья-соленья. Выставляли на общий стол.
Бабушке отдельный сарай не полагался, поэтому мы пристраивались к соседям в помывочный день. А тут, в новом доме, – мойся, когда захочешь, просить никого не надо. И погреб свой имеется. Большой, вместительный – только успевай заставлять банками.
Моя кровать стоит у стенки, примыкающей к печке. Всегда теплая, даже жаркая. Прижаться к стене и тут же уснуть. А еще перины и подушки, настоящие. У нас с бабушкой в прошлой квартире стояли кровати на сетках, а сверху – матрасы. Бабушка называла их смешно – «матрацы». У бабушки вообще было много слов в лексиконе, казавшихся мне смешными. Если я теряла ручку или тетрадь в школе, учительница говорила, что я Маша-растеряша. То есть я была виновной в потери вещи. А бабушка называла вещь, которую не могла найти, «потеряхой». Вроде как вещь сама решила потеряться, а человек тут ни при чем. Маму же, свою дочь, бабушка ласково называла «поперёшная». Мол, все делает наперекор. Еще было слово «яниться» в значении «капризничать», и оно мне тоже очень нравилось. Самые интересные услышанные слова, выражения бабушка записывала в специальный блокнот, с которым никогда не расставалась. Некоторые, видимо, и использовала в речи.
Так вот матрасы были жесткие, будто на деревяшках спишь. И подушки такие же. Здесь же, на перинах, проваливаешься в облако, зарываешься и встать не можешь – перина не отпускает, держит. Голову от подушки отрываешь с трудом – она там, в сладких снах, в пустоте, отчего становится так спокойно, будто уже умер. Просыпаясь утром, я несколько минут гадала – умерла и попала в потусторонний мир или еще живу на земле?
Правда, бабушка тогда будто с ума сошла – требовала эти перины раз в неделю «протряхивать». Подушки взбивать. То еще мучение. Перина тяжелая, еле за концы держишь. Бабушка встряхивает. Надо тоже со своего конца встряхнуть, а сил не хватает. Перина падает на землю. С пододеяльниками та же история – после стирки обязательно встряхнуть, расправить. Бабушка встряхивает сильно, я не удерживаю. До слез – опять идти полоскать.
Перину после встряхивания нужно повесить на специальную веревку, которая толще других, как канат, и хорошенько охлопать выбивалкой для ковров, чтобы ни одной пылинки не осталось. Вот я стою и думаю, как эту перину закинуть на веревку. Забрасываю с одного края, а второй уже по земле волочится. Забрасываю со второго, первый падает. Хочется упасть под этой периной и не двигаться. Так же с подушками – протрясти, выбить, взбить и поставить на кровать, непременно чтобы верхний угол торчал в потолок. Но самый кошмар наступал, когда бабушка устраивала стирку подушек, одеял и перины. Мне доставались подушки. Сначала снять наволочку, потом распороть наперник и аккуратно достать все перья. Но аккуратно не получится – все равно будешь стоять вся в перьях, как курица. Перья забиваются в нос, и можно чихнуть раз двадцать, не меньше.
– Бабушка, зачем стирать пух? – стонала я.
– Чтобы клещи не завелись, – отвечала она. – В перьях особые клещи заводятся.
Оставалось лишь тяжело вздыхать – вши, клещи, блохи, клопы… мухи, комары, оводы… колорадские жуки… Деревенская жизнь предполагает бесконечное сражение. А бабушка после войны была одержима уничтожением паразитов всех видов. Если к вшам относилась более или менее спокойно, то клопов отслеживала каждый день, проверяя постельное белье, кровать, бельевые шкафы. Поэтому и коньяк никогда не пила, хотя ей лучший в редакцию привозили ящиками. Запах коньяка ей напоминал клоповый. И даже если гости уговаривали: «Коньяк шоколадом пахнет, мандаринами, бочкой дубовой, попробуй, чистый нектар», – бабушка отказывалась.
– Зато тараканов нет, как в Москве! – радовалась бабушка, не изменяя своему врожденному оптимизму и решительно распарывая наперник с одеяла.
Во дворе выставлялись все имеющиеся в доме тазы. Даже цинковая ванна шла в ход. Вода не должна быть горячей. Если есть что-то хуже стирки пуха, то это натирание хозяйственного мыла на мелкой терке. Впрочем, этот навык мне позже пригодился. Когда я родила сына, никаких специальных порошков для стирки детского белья в помине не было. Я брала детское мыло и натирала на терке. Потом растворяла стружку в воде и замачивала пеленки и распашонки.
То же самое нужно было проделать с пухом. Натереть хозяйственное мыло, растворить в воде, обязательно добавить нашатырный спирт для дезинфекции и замочить перья. Уйти со двора не получится. Перья требуется помешивать, чтобы они, не дай бог, не скатались в комки. Пух увеличивается в объеме раза в четыре. Кажется, что ты будешь погребен под этим пухом. После замачивания нужно взять самое большое сито или самый огромный дуршлаг и промыть перья чистой водой. На этом все? Как бы не так. Поменять воду, натереть мыло, растворить и снова замочить перья. И снова промыть. Потом аккуратно завернуть в ткань, непременно одним слоем, и вынести на самый солнцепек. Чтобы пух прожарился на солнце. И опять проходить с ковровой выбивалкой, не давая перьям шанса сбиться в комки. Зимой подушки не стирались, а просто выносились на мороз. Если бы у меня кто-нибудь спросил, какое из хозяйственных дел я ненавижу больше всего, я бы честно ответила – стирать пух из подушек и одеял.
Бабушка в новом доме стала маньяком чистоты. Застилала кровати без единой складочки на покрывале, ставила подушки уголком. Сверху обязательно укладывалась кружевная салфетка. Я бабушку просто не узнавала – в старом доме можно было закинуть кое-как покрывало и бежать играть во двор. Я думала, что это такая расплата за собственную комнату и зимнюю кухню, где не нужно мыться на глазах у всех соседей. Поэтому выравнивала покрывало и ставила подушку, как требовала бабушка.
А еще счастье – за окном, маленьким, всегда открытым, с кружевными занавесками, – свой палисадничек. Что хочешь, то и сажай. Хоть розы, хоть петушиные гребешки – правильно они называются целозия, – которые так любила бабушка, хоть алоэ. И запахи, особенно ранним утром. Такие, что уже проснулся, а лежишь и встать не можешь. Дрема не отступает.
Без куста сирени никак. Ни один приличный палисадник не имеет права считаться таковым, если в нем не растет сирень. У бабушки сирень не отличалась достоинствами, не могла похвастаться цветками-пятилистниками, на которых загадывалось сокровенное желание. Зато алоэ раскинуло свои листья щедро и широко. Петушки колосились.
Бабушка подарила мне настоящий дом. Тот, который должен быть в детстве у каждого ребенка. С колышущимися от легкого утреннего ветра кружевными занавесками, невероятными запахами, печкой. Завтраком, накрытым на большом столе под белой жестко накрахмаленной салфеткой, предназначенной лишь для этого – накрывать завтрак. Курами бестолковыми. Злым петухом, норовившим догнать и клюнуть. Фруктами и ягодами – только протяни руку и сорви. Кошками и котятами, которые ложились на раскладушку, стоявшую под черешней, и их не сгонишь – ложишься рядом, а они еще двигаться не хотят. Потом на шее пристраиваются, мурчат. Брехливым, но очень добрым псом Мухтаром. Вообще-то соседским. Но он вдруг сам решил охранять еще и наш дом. Так и бегал с дозором – от своего к нашему. Его даже куры не боялись. Мухтар за службу, включавшую ночные пробежки с лаем, укладывался на спину и подставлял пузо – чеши. Или подходил и клал голову на колени – чеши за ушами. Большей благодарности не требовал.
– Мухтар, умоляю, давай ты ночью будешь спать? – просила его бабушка, выдавая псу миску с едой. Но тот сидел и ждал ласки. Бабушка трепала его по голове.
– Мухтар, я тебя отдам соседям. Пусть они так страдают, как я. Когда ты дашь мне выспаться? – причитала настоящая хозяйка Мухтара, соседка тетя Роза, выдавая псу миску с едой. Мухтар ложился на спину.
– Я тебя почешу, если пообещаешь не брехать по ночам! – строго объявляла тетя Роза. – Прямо сейчас мне поклянись, что я буду спать по ночам!
Мухтар что-то побрехивал, но каждую ночь опять выходил с дозором.
Не знаю, почему он решил взять шефство еще и над нашим домом. Бабушка сторожевую собаку так и не завела, объясняя это тем, что пес будет жить в доме и спать в ее кровати, а ей придется переселиться в будку. Еще она утверждала, что не любит домашних животных. Правда, животные в это не верили. Кошка Ночка прибегала к бабушке и будила ее истошными воплями, сообщая, что собирается рожать. Всю ночь бабушка принимала роды, уложив Ночку на одеяло, поближе к печке, на собственную чистую, проглаженную с двух сторон ночнушку. Каждый раз бабушка просила маму привезти ей из Москвы новую ночнушку.
– У тебя уже должен быть целый склад! – удивлялась мама.
Бабушка не могла признаться, что Ночка мало того что оказалась многодетной кошкой, так еще и рожать предпочитает на чистых новых ночнушках. А на старых простынях категорически отказывается. Мечется, истошно кричит, смотрит так, что сердце разрывается. И успокаивается лишь тогда, когда бабушка кладет перед печкой еще ни разу не надетую сорочку. Самых слабых котят Ночка в зубах дотаскивала до кровати и подкладывала бабушке под бок. Бабушка все время спала в котятах. Так и говорила – не «с котятами», а «в котятах». Подросшие котята не собирались уходить из теплой постели, как ни сгоняй. Новорожденных же бабушка упорно пыталась подложить под материнский бок, но Ночка после кормления вновь переносила их под бабушкин. Потом кошке, как каждой матери, надоедало бегать туда-сюда, и она переносила всех котят в кровать, укладывалась рядом, и они наконец спокойно засыпали. То есть Ночка с котятами сладко сопели, а бабушка лежала без сна, боясь пошевелиться, чтобы ненароком не раздавить котенка.
Когда много позже в роддомах молодым матерям предлагали уникальную возможность, стоившую, кстати, отдельных денег, – находиться с ребенком в палате круглосуточно, а не отдавать медсестре после кормления, я всегда вспоминала Ночку. Пожилые медсестры уговаривали мамочек отдать младенца в детскую, мол, докормим ночью, а вам надо выспаться, набраться сил, успеете еще набегаться по ночам. Но те, кто выбирал оставаться с ребенком в палате, считались прогрессивными. А те, кто отдавал, – вроде как недомамашами.
Я рожала обоих детей по старинке. Сама, без эпидуральной анестезии. И благодарила нянечек и медсестер за то, что они докормят ребенка ночью, ранним утром. Знала, что за три дня в роддоме мне нужно набраться сил, восстановиться. На меня смотрели с укоризной. Мне так хотелось рассказать про Ночку. Бабушка по ночам вставала, кормила слабых котят из детской бутылочки с соской, разводя сухое молоко. Утром позволяла Ночке поваляться подольше в кровати, кормя заодно и остальных котят. Кошка была благодарна своей хозяйке. Она подходила, когда бабушка писала, сидя за секретером, и подолгу вылизывала ее руки, будто целовала. Потом ложилась рядом, на стол, на бумаги, и мурчала. Бабушка говорила, что под мурчание ей особенно легко писалось. Когда котята немного подрастали и не требовали ночных выкармливаний, Ночка перетаскивала всех в курятник, в ящик, где куры несли яйца. Один из них, самый дальний, кошка давно себе облюбовала. Куры смирились и не спорили.
В мои обязанности входило кормить кошек и Мухтара. Ели они вместе. В миски выливались остатки супа или каши, сверху щедро крошился хлеб. Ночка ни разу не стащила со стола даже крохотного кусочка мяса. Пес никогда не клянчил еду.
Однажды Мухтар притащил бабушке полумертвого щенка.
– Нет, неси его в свой дом, – ахнула бабушка, – мне котят хватает! – Но Мухтар лег и заплакал. Собаки умеют плакать настоящими слезами.
Бабушка тяжело вздохнула и принялась выхаживать щенка. Она назвала его Маресьев – у него были перебиты задние лапки. Видимо, попал под машину.
Кутенок скулил по ночам. Бабушкино сердце не выдержало, и она забрала его в кровать, где Ночка выдала ему сосок. Маресьев считал себя котенком, научился быстро передвигаться, используя только передние лапы. Он играл с котятами, пытался не гавкать, а мяукать, и ему это почти удавалось. Когда Маресьев немного подрос, Мухтар начал выводить его на дежурства. Щенок радостно мяукал, труся за Мухтаром. На ночь они возвращались в бабушкин дом. Ночка шипела на Мухтара, видимо, интересуясь, куда тот опять погнал ребенка. Он что-то жалостливо брехал в ответ. Маресьев ластился к кошке, а та его вылизывала и приводила к бабушке – на поздний ужин. Бабушка закатывала глаза и хохотала. Нормальная семья.
* * *
В прошлой квартире нужно было обязательно мыть подъезд, все этажи, лестничные пролеты. Но не каждый день. Мыли по очереди все жильцы дома, точнее, младшие девочки или девушки из каждой семьи. Повинность, ставшая традицией. Обувь, выставленную за порог квартиры, не только своей, но и чужой, тоже требовалось тщательно помыть. Иногда набиралось пар десять, не меньше. И каждую – отскобли от налипшей и застывшей глины, отмой в грязном тазу, потом промой в тазу с чистой водой. Каждый день. К бабушке часто приходили люди, и их обувь я тоже должна была отмыть. Если кто-то из нас, девочек, пропускал уроки в музыкальной школе, опаздывал на репетицию в ансамбле народного танца, нужно было сказать: «Мыла обувь». Это считалось уважительной причиной для прогула или опоздания.
Что меня поражало по возвращении в Москву? Здесь девочки не мыли ни свою, ни уж тем более чужую обувь. В этом не было необходимости. Туфли оставались чистыми. Я смотрела на свои сандалии и удивлялась – проходила целый день, а на них нет налипшей грязи. И никому в голову не приходило отругать меня за плохо вымытую обувь.
Как-то уже в московской школе я опоздала на урок. И когда учительница потребовала объяснений, я ответила, как было принято в деревне: «Мыла обувь». Учительница не знала, как реагировать. Мои одноклассники хохотали и потом долго дразнили, предлагая помыть им обувь. Я плакала и не понимала, что сказала не так.
В Москве никто не оставлял обувь за порогом, в коридоре. Только дядя Коля – сосед, живший двумя этажами ниже. Он выставлял ботинки рядом с дверью, выходил в коридор и с помощью каких-то красок из многочисленных банок натирал до блеска ботинки. Занимался этим часами, явно с удовольствием. Я могла поклясться, что увижу собственное отражение в его ботинке. Когда после жизни в селе я впервые увидела, как дядя Коля сам чистит обувь, чуть в обморок от ужаса не упала. Решила, что ему грозит несмываемый позор, и предложила свою помощь. Он удивился не меньше меня. Я думала, что у соседа нет жены или дочери, которые могут взять на себя эту повинность, и жалела его всем сердцем. Но оказалось, у соседа имелись и супруга, и даже две дочери. Дядя Коля был военным, привык чистить обувь, да и сам процесс ему нравился. Как он говорил: «Приводил мысли в порядок». В тот момент я этого не поняла, а сейчас – очень даже. Если нужно переключиться, займи руки. Неважно, что делать: вязать, шить, красить, готовить.
Но тогда получилось совсем смешно. Я из лучших побуждений, чтобы о дяди-Колином позоре не узнали соседи, выхватила у него щетку и ботинок. Принялась чистить. Дядя Коля же решил, что мне нужны деньги и я таким образом пытаюсь заработать. Он ушел в квартиру и вернулся с мелочью. Пытался мне ее дать. Я категорически отказывалась. Ситуация разрешилась, когда дядя Коля пришел к моей маме. Он привык сам чистить свои ботинки, но вдруг оказался лишен радости и отдушины – пока чистит, не слышит упреков жены и вечных претензий дочерей. Они знают, что это время – святое, и не беспокоят его. А тут он выходит, и опять все ботинки идеально сверкают. Может, Маше найти другую подработку? Он оставлял деньги, но она так и не берет. Однажды целый рубль положил, решив, что обижает меня низкой оплатой. Но и рубль остался лежать в ботинке. Мама рассказала про традиции. А мне строго-настрого запретила чистить обувь дяди Коли. Но тот, кажется, про традиции не поверил, а я просто спускалась на этаж – вдруг понадоблюсь. От дяди Коли я узнала про гуталин, воск и прочие премудрости для чистки. Часто он использовал крем для рук или лица, который тайно забирал из шкафчика в ванной. Жена и дочери удивлялись, куда делся крем, но на дядю Колю никто и подумать не мог. Так я узнала, что крем для лица идеально подходит для ботинок, если только они сделаны из натуральной кожи, а не из кожзама. Сосед рассказывал про разные способы вернуть цвет обуви. Ему бы реставратором работать. Он, кстати, об этом мечтал: сидеть в какой-нибудь маленькой мастерской и возвращать жизнь старым туфлям или ботинкам. Дядя Коля подарил мне баночку гуталина, маленькую обувную щетку, воск, вазелин.
Этот урок мне тоже пригодился. Я вернулась к бабушке в село и однажды так начистила обувь, что обо мне пошли слухи. Все ахнули. Бабушка тогда кричала, что ее внучка не будет чистить обувь, даже не приходите и не просите. Ни за какие деньги. Нашли мальчика, тьфу, девочку-чистильщицу.
Еще одно потрясение я пережила, увидев, как папа моей одноклассницы, к которой я зашла в гости, моет посуду. Причем облаченный в женский фартук. В селе я не видела ни одного мужчины, который, радостно насвистывая, мыл бы посуду. Про женский фартук я вообще старалась не думать. Это же… ну, как если бы мужчина вместо кепки надел женскую шляпу или повязал бы на голову платок. Такого не может быть никогда. Но к тому времени я уже привыкла держать рот на замке и не стала уточнять, как после такого позора он сможет выйти во двор. На всякий случай пообещала однокласснице, что ничего не скажу.
– Про что? – не поняла она.
– Про посуду и фартук, – прошептала я.
Одноклассница решила, что я странная, и больше со мной не дружила.
* * *
Лифт меня завораживал. Я могла кататься в нем до тех пор, пока соседи не начинали ругаться. Еще мне нравилось вывалиться до пояса из окна и часами смотреть вниз. В селе выше двухэтажных домов сооружений не строили. Мама, боявшаяся высоты, подойти к окну не решалась. Мы жили на восьмом – других вариантов не было, – и она даже в форточку старалась не выглядывать. Я же наслаждалась. Мама узнала о моем увлечении от соседки, которая решила, что я собираюсь покончить жизнь самоубийством: «Вот вчера уже почти упала». Мама меня отчитала и запретила вообще приближаться к окну. Так я поняла, что это самое безопасное место в квартире – мама просто застывала на пороге. Она не могла меня заставить вернуться в свою комнату, не могла ударить полотенцем. Даже кричать была не способна – от страха. Так что я часто пользовалась ее боязнью высоты – чуть что, вываливалась из окна по пояс или вставала на подоконник.
В селе были одни запреты и правила, в Москве – другие и не очень мне понятные. Гулять с мальчиками после школы можно, а заходить просто так к соседям нельзя. В селе было с точностью до наоборот. Ходить в брюках или штанах можно, а не платить за хлеб или конфеты в магазине нельзя. В селе всегда можно было взять хлеб в долг, но штаны – позор. Носить короткие юбки можно, а выходить на улицу с едой – хлебом, посыпанным сахаром, нельзя. В селе – опять наоборот. Мне нужны были объяснения, но мама лишь отмахивалась.
Она, возвращая меня в Москву из села, тоже страдала. Я забывала закрыть дверь, уходя в магазин, – в селе двери не закрывали. Назначение дверной цепочки для меня вообще долго оставалось загадкой. Что такое щеколда, было понятно, а вот цепочка – нет. Как можно открыть дверь на расстояние щели? Это же невежливо. Что люди подумают? Наличие в двери двух замков, а не одного, тоже было откровением. Мама хваталась за голову, когда я, не отрываясь, жала на дверной звонок. Наш пел мелодичной трелью. Мне нравилось. Потом я обходила соседские квартиры и нажимала на их звонки. Все были разными. Мама меня ругала, а я не понимала за что. В селе звонков не было. Объявляя о приглашении на торжество, стучали в ворота палками. Если требовался хозяин дома, выкрикивали его имя. Отчего-то я боялась спросить у мамы про звонки, цепочку, замки. Даже не знаю почему. Став старше, научилась быстро мимикрировать.
* * *
Когда бабушка переехала в частный дом, я очень радовалась. Наконец мы жили как все. Точнее, как все девочки из моего класса, из музыкалки и танцевального кружка. Две кухни – летняя и зимняя, огромный огород, курятник, палисадник, сарай и аж два туалета, один ближе к дому, второй на огороде. Я была счастлива, что здесь не придется отмывать лестницу и чужую обувь. Что не нужно ждать очереди в уличный туалет, рассчитанный на всех жильцов дома. Что можно мыться на зимней кухне, а не в соседском сарае.
Но, как оказалось, двор требовалось подметать каждый день. Иногда и дважды. Еще и за воротами не забыть. Забудешь подмести за воротами – позору не оберешься. Да и пол в доме требовалось вымыть так, чтобы между деревянных половиц не осталось грязи. А как без грязи, когда дом на земле стоит? В квартире достаточно было пройтись мокрой тряпкой. А здесь – часами сидишь на коленках и вымываешь между половицами. До сих пор помню, как сижу, плачу и тру тряпкой. Понимаю, что толку не будет и завтра снова придется выскребать землю. И послезавтра тоже. А еще – наносить воды из уличной колонки, четыре ведра как минимум. Развесить белье, снять высохшее, отнести на зимнюю кухню, погладить. Перемыть всю обувь, пусть не десять пар, а всего три, но лучше бы десять перемыла. В центре села лежал асфальт, а здесь, на окраине, дороги в лучшем случае посыпали щебенкой, так что отмыть здесь одну пару – это как там, в центре, все десять. Те же усилия. После – выставить, чтобы просохла. На огород каждый день, без разговоров. Грядки прополоть. Собрать колорадских жуков с картошки, полить, еще раз полить, сорняки, грядки – и так каждый божий день… Полить цветы в палисаднике. Там тоже вырвать сорняки. Дать курам корм, собрать яйца, положить сено в ящики для несушек. Накопать картошку, собрать урожай – два черешневых дерева, одно вишневое. Вырвать крапиву, разросшуюся вдоль сетки. Совсем рядом, за сеткой – железная дорога. Там же – кусты кизила. Набрать ягоды. Кизиловые кусты с шипами, крапива больно жжется. А если молодая, то надо каждый день рвать – на суп, на лечебные настойки и притирки. Потом каждый лист очистить от грязи. К обеду уже падаешь без сил. Счастье, когда надо бежать в школу, потом в музыкалку, потом в ансамбль. Вечером снова отмыть обувь – к утру уже грязь не отдерешь, – помыть ноги и рухнуть в кровать. Про «помыть ноги» помнит каждый ребенок, выросший в селе. Помыться – это ритуал, целый день. Вечером помой ноги под уличным умывальником с пимпочкой. По утрам женщины протирались над тазом мокрой тряпкой. Проходились под мышками, под грудью, приседали, подмываясь. Про чистку зубов вообще никто не спрашивал.
Быт убивает, это я точно знаю. Когда мы жили с бабушкой в квартире, я по вечерам писала стихи, сказки, пыталась вести девичий дневник. Здесь же оставалось одно желание – доползти до кровати и уснуть. Бабушка тоже мало писала, увлекшись домашними делами, хозяйством частного дома. В этом она призналась только Варжетхан:
– Не могу писать совсем. Так устаю за день. Но ведь сама хотела, сама выбрала. Не успеваю ничего. Если день отработаю по дому, на огороде, вечером ни строчки не напишу. Думать не могу. Маша тоже страдает. Я думала, ей будет лучше. А она устает. Тоже без ног падает. Стихи начала писать – бросила.
– Ну а разве для тебя это новость? Быт убивает. А почему наши женщины в тридцать лет выглядят такими уставшими, будто они уже целую жизнь прожили? Потому что так и есть. У них каждый день одно и то же – дворы, уборка, стирка, готовка. Дело не в физических затратах, а в том, что все повторяется каждый божий день. Это и убивает, – ответила Варжетхан.
– И что мне делать? – спросила бабушка.
– Если хочешь писать, перестань строить из себя великую хозяйку. Живи как раньше. Пусть ребята тебе воды натаскают, дрова нарубят. Я попрошу Земфиру – будет к тебе приходить помогать по хозяйству. Ты ей только в знак благодарности масло, муку давай. Там семья большая… им всегда нужны продукты.
– Ты предлагаешь мне нанять домработницу? – ахнула бабушка.
– Нет, я предлагаю тебе выход из положения. Ты снова начнешь писать, Маша перестанет убиваться на огороде – посмотри на нее: глаза пустые, потухшие. Только грядки и видит. А Земфире в радость – она любит по дому возиться. Деньги не давай, продуктами плати. Всем будет хорошо.
Так и случилось. Земфира приходила каждый день и возилась по хозяйству. Бабушка снова начала писать и пропадать в редакции. Я вернулась к девичьему дневнику.
Деда, бабушкиного мужа, я почти не помню. Тихий старичок. Шаркал по ночам, когда выходил в коридор помочиться в ведро. Мочился долго, видимо, страдал простатитом. Это я сейчас понимаю. А тогда лежала и слушала, как моча бьет о стенки цинкового ведра. То сильно, то замолкает. Раньше я таких звуков не слышала. Несколько раз описалась, боясь встать и увидеть, как в ведро писает дед. Не решалась признаться бабушке, сама перестирывала белье. Кажется, я с дедом ни разу не разговаривала. Не помню такого. Даже как его звали, не помню, честно. Не обращалась к нему, он ко мне тоже. Дед умел вязать веники – в рабочем сарае целый цех был оборудован. Он вязал на продажу – на длинной ручке, чтобы сметать паутину с потолков. Большие, разлапистые – для двора, сметать листья. Жесткие, с короткой щетиной – для грязи. Обычные, традиционные – подметать в доме. Веников было видов двадцать, не меньше. Он не учил меня их плести, скорее, не выгонял из сарая. Разрешал брать инструменты. Но ничего не объяснял. Я иногда приходила и плела веники. Дед всегда срывал оставшиеся зерна с прутьев, а мне, наоборот, хотелось, чтобы веник был с зернами. Мне нравилось прошивать – шилом, черной липкой нитью. У деда была специальная мерка для веников. Я же делала так, как хотелось. Под свою руку. И не понимала, почему в этих мерках нет детского размера. Ведь дворы подметали в основном девочки моего возраста – вчерашние дети. Почему нельзя было сделать ручку покороче? А сам веник для двора – чуть поменьше? И, главный вопрос, почему не рассказала об этом бабушке? Ведь сама была обречена на то, чтобы управляться со здоровенной метлой, пока однажды не связала для себя веник – пусть корявый, плохо и слабо прошитый, но удобный. Мой веник просили напрокат подружки. И даже после этого – почему дед не взял на вооружение новый вид, почему бабушка не убедила его в этом и почему не похвалила меня? Сейчас понимаю. Все считали, что я так развлекаюсь – рано или поздно все равно покину деревню, так что размер веников останется в моей памяти слабым воспоминанием, если вообще останется.







