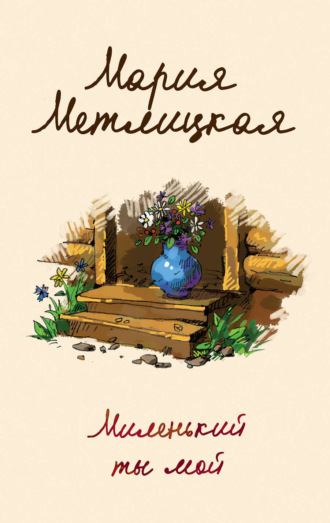
Мария Метлицкая
Миленький ты мой
Потом эти мысли много раз приходили мне в голову. Когда от меня ушел Димка, мой любимый муж. Когда сбежал Валентин, мой любимый мужчина…
Но это все было потом. А комплексы мои остались со мной навсегда.
Помню, приехала как-то Полина Сергеевна – погостить. Это так называлось.
Меня уложили, а я не сплю – слушаю их разговор.
Баба Маня жужжит:
– Дура ты, Полька! Куда подалась? В прислуги к капризной барыне? Ты что – крепостная? А дочь у тебя? Мне ведь тяжко уже, Поля! Я старая! И чего тебе там? Медом намазано? Деньгами забрасывают? Да я еще понимаю – терпеть ради хорошего мужика! Основательного! Поняла бы даже, если дитя тогда побоку! А здесь? Если не любовь, тогда зачем? Нравится, что понукают?
– Не понукают, мам! – оправдывалась Полина. – Совсем не понукают! А даже наоборот! Очень хвалят и ценят! Не может она без меня, понимаешь? Говорит: «Я, Поля, без тебя – как без рук!»
Баба Маня вздыхала:
– Не могут! Как же, не могут! Уйдешь – тут же забудут! Или получше найдут. Помоложе, покрепче. А заболеешь? Вышвырнут, как котенка приблудного, и тут же забудут. Знаю я их… А то, что девка растет без тебя? Это как? Где твое сердце, а, Полька? Куда закатилось? Не любишь ее? А про Андрюшку совсем забыла? Грех на тебе, Поля! Ох, какой грех!..
Тут я начинала реветь, уткнувшись в подушку. И на голову клала другую – чтоб не услышать мамашин ответ. Про любовь. Про меня. Про папку Андрея. Боялась ужасно!..
А еще мы торговали! О как! И смех, и грех эта наша «торговля»: десяток яиц, шмат сала, картошка, моркошка. Грибы – если лето. Ягоды всякие. И я, малая, «букеты» делала: ветка рябины, разноцветные листья клена, золотые шары, георгины и астры. Колдовала долго, смешивала, меняла. Баба удивлялась: «А красиво, Лидка! Ох, как красиво!» Только букеты эти не брали… Сало брали, грибы… А вот букеты… Я даже плакала – так было обидно. Спрашивала у бабы: «Почему не берут? Красота ведь, правда?» А баба вздыхала: «Не до красоты сейчас людя́м. Ох… выжить бы…»
Однажды букет мой купила женщина – красивая, как мечта! Остановилась машина – женщина была за рулем – и вышла оттуда Красавица, Фея. Глянула на меня и улыбнулась:
– Сама придумала?
Я смущенно кивнула:
– Сама.
– А ты талант, девочка! Такое придумать!.. Небось и рисуешь?
Я снова кивнула.
– Тебя надо учить! – сказала женщина. – Передай своей маме! Обязательно надо учить! А не… – она оглядела наше с бабой торговое место на обочине, – а не картошкой торговать! И вы, бабуля, скажите родителям! – Она улыбнулась, взяла два букета, положила на ящик деньги и почему-то пригрозила пальцем бабе Мане.
Вжик! И она исчезла, оставляя за собой облачко дыма, придорожную пыль и… запах мечты…
Полина Сергеевна приезжала нечасто и ненадолго. Всегда торопилась обратно. Откровенно смотрела на часы. Плохо ей было у нас. Поначалу, когда я была совсем мелкой, я ревела белугой и бежала ее провожать. И за автобусом долго бежала. Пока мордой в пыль не падала. Коленки всмятку, лицо в потеках – пыль, грязь и слезы. Кровища течет по ногам, я реву… А Полина Сергеевна машет в окошко.
Вот, думаю, был бы мой ребенок, мое дитя? Да я б из автобуса выпрыгнула! Хоть в окно, на ходу! Чтобы прижать свою деточку – маленькую, тощую, грязную и зареванную… Прижать к себе и не отпускать!
Нет. Уезжала. Помашет и – за горизонт. А я бреду спотыкаясь и в голос реву.
Баба Маня стоит у калитки:
– Чего бросилась, глупая?
Обнимет меня, умоет, переоденет и даст чаю с конфетой.
Подарки Полины Сергеевны – килограмм шоколадных конфет «Каракум», коробка зефира. В шоколаде. Вкусно – уммм! Мы с бабулей ели по половинке – поделим и с чаем.
Колбасы докторской полбатона – а то пропадет! «Как пропадет, Полька? – Баба качала головой. – Ха! Пропадет! Да мы его тут же, за один вечер! Вкусно же как!..»
Еще привозила колбасный сыр – целую палку. И вафельный торт. Торт бабуля нарезала на тонкие пластинки – узкие палочки, чтоб растянуть и смаковать. Хватало надолго.
Привозила мне и кое-что из одежды – ситцевый сарафан или кофту из шерсти. Отрез сатина, чтобы баб Маня нашила «сиротке» трусов. А готовые купить? Дешевенькие, но с кружавчиками! У нас в классе у девчонок такие были. Ах, красота…
Ну и какие-то деньги – я уже говорила. Баба Маня клала их за икону Николая Чудотворца.
Старая икона, еще ее бабки. Да… Не хочу вспоминать… А надо – для пользы дела.
После похорон бабы Мани икону она увезла. Сняла со стены и – в сумку.
Я говорю:
– Зачем тебе? Ты ж в бога не веришь!
А она мне в ответ:
– А тебе зачем? Ты, что ли, веришь? Ты ж пионерка!
– На память! О бабушке, – я тогда закричала.
А она махнула рукой:
– Не болтай! Беру – значит, надо! Память… Что, для этого вещи нужны? А так что – сразу забудешь?
– А тебе? – закричала я. – Тебе для чего? Королеве своей отвезешь? Чтобы та умилилась? А потом в чулан засунула? На фига ей это? Или она у тебя в бога верит?
Буркнула только:
– Не твое дело!..
И – тю-тю! Я даже до свидания ей не сказала. Отвернулась к окну и заревела.
А она крикнула из сеней:
– Ну пока! Держись, Лидка! И веди себя хорошо!
– Да пошла ты! – это я ей вслед.
Услышит? Ну и пожалуйста! Мне плевать! Не было у меня матери и не надо. Не привыкать! Переживу!
После смерти бабы присматривала за мной тетя Тоня, ее племянница. Сама одинокая и пожилая. Старая дева. Мать с ней сговорилась. Потом я узнала, что она ей платила пять рублей в месяц. На питание. И еще три – «за труды».
Тетя Тоня переехала в нашу избу. Легла на бабино место. Днями спала – больная была, давлением маялась. Какой там следила! Какое питание! Готовить она не умела и учиться не собиралась. Ко мне была равнодушна. Чужая девочка. Она ко всем была равнодушна – никого не любила. Гордилась тем, что осталась девицей! Мужчин презирала. Она и вправду была нездоровой. А сопротивляться недугам своим не желала. Чуть кольнет – сразу в кровать. И храпит. А как проснется – сразу: «Лидочка, а у нас есть что покушать?»
Или так: замочит свои портки в корыте и ждет. Ждет, когда я постираю. Я, конечно, не подхожу. И она не подходит. А потом это корыто так начинает вонять… Что нету сил мимо пройти. Ну и что я делаю? Я стираю. А эта снова кряхтит: «Лидочка, простирни! А, голуба? Я даже голову поднять не могу – так стреляет…»
Почему я бралась? Почему я готовила Тоньке еду? Почему стирала ее тухлые портки? А потому что боялась! Боялась, что хватит Тоньку удар и Тонька помрет. Окочурится. Или еще хуже – разобьет дуру эту паралич и ляжет она навсегда. Я читала, что давление очень опасно. И кто будет за Тонькой горшки выносить? Правильно, Лида! А если помрет – девочку Лиду оформят в детдом.
Вот и… Словом, понятно.
Тонька спала и жрала. Все. Вот тогда я и стала хозяйкой – все было на мне: и стирка, и огород, и готовка. Тонька только приказы мне отдавала: свари, постирай, принеси. Тоньку я ненавидела! Особенно когда она надевала бабины вещи. Вещей, конечно, у бабы было немного, да и те – старая рухлядь. Но Тоню это устраивало. Например, нашла она две теплые и новые кофты и юбку – подарки Полины Сергеевны. Я про них и не знала – баба их спрятала. Не хотела она носить вещи от «любимой» дочурки. А Тонька нарыла! И ходит довольная. Я ей: «Сними! Не твое! Положи, где взяла!»
А она пасть свою как распахнет, да как меня матом: «Я тут с тобой! Да вместо того, чтобы жить для себя! Да вместо того, чтоб отдыхать! Да за тобой, за эдакой дрянью!.. Говно подтираю!»
Мне даже смешно стало: «Ты – и за мной? Ты для меня?»
Мы с ней почти не разговаривали. О чем нам говорить? Так, перебросимся парочкой фраз и снова молчим.
А когда мать приезжала, Тонька скулила. Ныла и хныкала: «Устала я, Поля, тяжело с твоей девкой. Шустрая она и языкатая! На всем экономит, зараза такая! Я ее прошу конфеток купить, самых дешевых! А она? Теть Тонь, мы из бюджета уже с тобой вышли! Не будет конфет, и вафель не будет. Ешь, вон, мед и суши сухари!»
И денег все время просила. Клянчила, ныла: «Поль, нам не хватает! Подкинь, а, Полин?»
А я уже не ревела! Потому что так ее возненавидела… что сердце болело. От злости жгло под лопаткой. А может, и не сердце… А просто злость и тоска. И еще – обида. Такая, что…
Говорить не хочу. Страшновато. Это потом, много позже, я словно заледенела. Закаменела от обиды и боли. И все мне стало по барабану. Вот так.
И я ее не простила. Ни разу. Просто заморозилась как Снежная королева – сердце из льда и душа пустая.
В школе меня не любили. Была я неразговорчива, нелюдима, близко ни с кем не сходилась. Я стеснялась. Стеснялась своего одиночества, своей матери, которая бросила меня…
Училась я хорошо. Но особого интереса к учебе не было. Пока не появился Захар Ильич.
Захар Ильич пришел к нам в пятом классе. Учитель русского и литературы. Пожилой мужчина с сиплым, прокуренным голосом. Был он коренным питерцем, волей судьбы занесенным в наши пенаты.
И этого хилого, невысокого, тихого мужичка все полюбили мгновенно. Он был человек, наш учитель. Он нас уважал.
Тихим голосом он рассказывал нам то, о чем, думаю, не знали и многие взрослые. Биографии любимых писателей и поэтов он знал досконально. Маяковский, Есенин, Блок, Гумилев и Ахматова. Он обожал поэзию и старался привить эту любовь и нам – простым, деревенским, туповатым и ленивым подросткам.
Захар Ильич рассказывал о них, как о живых и страдающих людях, а не безликих портретах на стенах в классе. Как и кого любили, как бедствовали, как пережили и приняли – или не приняли – революцию. Как вступали или не вступали в сделки с совестью. Как нищенствовали и приспосабливались к власти тиранов. Как противостояли этой власти. Он говорил про них так, что нам казалось, будто мы знаем их лично, будто знакомы с ними и сочувствуем им. Они стали для нас живыми. Молодой доктор Чехов, любивший многих женщин и не создавший в молодости семьи… Его странная и некрасивая жена, видимо, так и не полюбившая его… Его болезнь и понимание скорого ухода… Ахматова и ее роман с Модильяни… Брак с Гумилевым и его кончина… Эвакуация в Ташкент и отношения с сыном… Одиночество, нищета, избушка в Комарово… Статьи в «Звезде» и «Ленинграде»…
Есенин и его женщины… Его бурные загулы и невыносимый трагизм… И непонятная смерть…
Маяковский и Лиля… Его любовная лирика, которой нет в школьной программе… Муки совести и прозрение… Самоубийство…
Маяковский для нас был трибуном революции – это понятно. Твердый взгляд, волевой подбородок. А тут… Такая страсть, такая нежность, такая любовь… Живой человек – тонкий, нежный, ранимый.
А Гумилев и его путешествия в Африку, в Абиссинию:
«Сегодня особенно грустен твой взгляд.
И руки особенно тонки, колени обняв…»
Ушел добровольцем на фронт Первой мировой.
И какая же страшная смерть настигла его в двадцать первом году… Было ему тридцать пять…
Рассказывал Захар Ильич и о Зощенко, и о Юрии Олеше.
Он рассказывал нам о многих, кого любил, ценил, уважал. А про иных говорить не хотел – отделывался коротким и скупым: «А произведения этого автора вы прочитаете самостоятельно».
И мы больше вопросов не задавали. Помню, сказал про Достоевского: «Кто не хочет – тот не читает. Прочтете позже, лет через десять». Я прочитала.
На педсоветы Захар Ильич не ходил: «Извините, жена хворает…» И торопился домой.
А вот факультативы устраивал! Раз в неделю. Правда, ходили туда… раз-два и обчелся… Я, конечно, не пропускала.
Захар Ильич учил нас, бестолковых и непоседливых, любить поэзию, понимать и слышать ее. Читать прозу и чувствовать ее. Он объяснял нам красоту русского языка – пробовать его «на язык», не только на слух.
Он пытался сделать из нас, простых деревенских подростков, думающих о танцах в заплеванном клубе, людей. Тонких, честных и милосердных. И мы, простые и русопятые, сидели на его уроках, раскрыв рот, и не слышали звонка с урока.
Я подружилась с Захаром Ильичом больше, чем все остальные. Провожала его до дома, после факультативных занятий. Мне было дозволено это, и я была счастлива! По дороге к дому мы продолжали беседовать. Захар Ильич был щедр на рассказы и легко делился мыслями и ощущениями.
– Лида! Вам нужно поступать в институт! Вы так правильно слышите стих! Вы так чувствуете поэзию! Ведь это как музыкальный слух – слышать поэзию! – говорил он.
В восьмом классе Захар Ильич пригласил меня в гости. Обычно я провожала его до калитки, и мы прощались. Я видела, как он устал, как посерело и осунулось его лицо.
Но тут он сказал:
– Пойдемте, Лида, выпьем с вами чаю с вареньем! У нас отличное крыжовенное, жена наварила.
И я, с замиранием сердца, вошла в его дом – в первый раз.
Его жена, Нина Валерьевна, почти все время лежала.
– Ниночка очень болеет… – грустно вздохнул он, – после инфаркта.
Была она женщиной неприметной – тихая, серая мышка. Но глаза за толстенными стеклами очков – были яркие и прекрасные.
В избе было чисто, почти стерильно. Но очень бедно. Даже по сравнению с нами. У нас была горка с какой-то посудой, кухонный буфет и старенький телевизор. Здесь – ничего. Стол, кровати, самодельный книжный шкаф. Все. Только книг было много.
Мы пили чай, и Захар Ильич рассказывал мне про Питер. Про музеи, дворцы, набережные и Невский.
– Почему вы уехали оттуда? – осмелилась я на вопрос. – Из такого прекрасного города… Сюда, к нам, в деревню…
– Обстоятельства, – развел он руками. – Иногда они бывают сильнее. Да и Нина стала болеть… Решили, что здесь тишина и свежий воздух…
Захар Ильич замолчал. Нина Валерьевна тихо вздохнула и ушла к себе.
– Непременно поезжайте, Лидочка, в Питер! При первой возможности, самой малой! Вы так напитаетесь там красотой!.. Вы мне поверьте! Город – волшебный, ей-богу! Мы с Ниной очень скучаем…
– Вернетесь? – дрогнувшим голосом спросила я, конечно же, из личного, шкурного интереса – не дай бог, уедет любимый учитель!
– А некуда! – улыбнулся Захар Ильич. – В комнате нашей, на Садовой, нам… места нет. Так получилось. Там живет наш с Ниной сын. Надеюсь, что живет… – и он снова вздохнул.
Я поняла: они сбежали от сына. А что уж там было – не мне расспрашивать. Но, видно, беда.
– А вы, наверное, в город хотите? – спросил Захар Ильич с лукавой улыбкой.
Я кивнула:
– А что здесь делать? Копаться в навозе? Нет, не хочу.
– Все так, – кивнул он и загрустил. – А ведь здесь прекрасно, Лида! Вы оглянитесь! Лес какой, поле! А озеро ваше? Тишь да гладь, да божья благодать! Вы мне поверьте! А вот возможности – да… В городе больше. Но вы подумайте все же… Чтоб не сгоряча. Хотя… вам же замуж выходить нужно. А с женихами здесь… полный ведь швах! Нет тут для вас подходящего.
Я растерялась: «Нет для меня? А чем я, собственно, отличаюсь от других? От моих одноклассниц?» Но спросить мне было неловко.
А Захар Ильич смотрел на меня и улыбался, видя мое смущение.
– Правильно, Лида! Езжайте, учитесь! Дерзайте! А там – жизнь покажет! Она ведь умнее нас с вами будет! Вы же умница, Лида! И еще, – он прищурился, – вы – красавица!
– Ну уж… – смутилась я – какая красавица? Обыкновенная я, как все остальные.
Он замотал головой:
– Нет, Лида! Настаиваю: красавица! Лоб у вас высокий и чистый! Нос… смешной и курносый! Рот упрямый – ни за что не уступлю, и не старайтесь! – Он засмеялся. – Я прав?
В ответ я лишь пожала плечами.
– А глаза?.. Серьезные, строгие – как у взрослой девицы! Впрочем, вы такая и есть! К сожалению… – грустно добавил Захар Ильич. – И красота ваша, Лидочка… Неяркая и неброская – да… Но чистая и милая! А это, поверьте, важнее! Умный мужчина увидит, не сомневайтесь! Вы, Лида, человек непростой, но надежный! С характером, верно?
Я, окончательно смущенная и растерянная, покраснела и кивнула.
Многое я не понимала тогда… Обиделась, дурочка! А ведь он, мой Захар Ильич, хотел меня уберечь! Видел, как сердце мое наливается злобой. Видел, как я страдаю.
И еще… Однажды, в очередной раз за чаем, он вдруг внимательно посмотрел на меня и сказал:
– Лидочка! А вы не держите зла на свою маму!
Я вздрогнула и посмотрела на него. Думаю, в моих глазах он увидел такой ужас, что смутился и сам.
– Это… как? – хрипло спросила я.
– Да вот так, как вышло. У всех своя судьба, Лидочка! И никто не знает, счастлива ли она там…
– А зачем… тогда? – я не узнала свой голос.
Захар Ильич развел руками:
– Да кто его знает – зачем… Жизнь так сложилась! И надо ее пожалеть. Ведь там она без семьи.
Я усмехнулась, и разговор не продолжила. Мне было стыдно от того, что ему все известно. Хотя… Деревня, что говорить!..
А после того разговора я обиделась на Захара Ильича: он защищает ее? Эту?.. Разве ее надо жалеть, не меня?
Нет, правильно говорят люди: чудак этот учитель, ей-богу!
А через полгода умерла Нина Валерьевна. И Захар Ильич стал попивать…
Вскоре он уехал. Просто уехал и никому ничего не сказал. Запер дом на замок и… Ни письма, ни записки. Бабы сплетничали, что он решил помереть – жить, мол, без Нины не мог. «Утопился, наверное!.. – шушукались бабы. – Пошел на речку и утопился!»
Но тело не находилось. Никакого письма не пришло, и вскоре все об этом забыли. Все, кроме меня.
Я страдала и считала, что он меня предал. Мы ведь дружили! Он же видел, кем он был для меня! И даже мне… Ни записки, ни слова!..
Так исчез из моей жизни еще один близкий и дорогой человек… Человек, пытавшийся мне объяснить…
Тетя Тоня умерла, когда мне было шестнадцать. Последний, выпускной класс. Полина Сергеевна на похороны не приехала, хотя телеграмму я ей отбила.
А для меня это было облегчением: я наконец осталась одна!
Школу окончила, дом заперла, кур своих древних зарезала и раздала по соседям. И рванула в город. В наш уездный центр Н. Подала документы в педучилище и заселилась в общежитие. Экзамены сдала легко и поступила.
В городе мне нравилось все! Наш маленький, тускленький, захудалый Н. казался мне центром Вселенной. Я удивлялась автобусам и такси, могла долго стоять на железнодорожном вокзале и «провожать» поезда. Часами сидела в станционном буфете и пила остывший чай, неотрывно глядя в окно. Думала: куда летят поезда? Куда едут все эти люди, в какие края? От чего бегут и что ждет их там, в «прекрасном далеке»? Я завидовала им. Завидовала их передвижениям и переменам. Я мечтала о путешествиях, о морях и городах. И, конечно, о Питере – городе моего учителя, который я полюбила заочно.
И еще, я стала почти городской. Я обрезала волосы и сделала модную стрижку, научилась красить ресницы и ногти и копила на новые трусики и лифчик. Я рассматривала журналы мод и мечтала, мечтала… Мечтала о красивом белье, лаковых туфлях, кожаной сумочке – почему-то зеленого цвета. Видела такую в польском журнале мод. Маленькая, изящная, ярко-зеленая сумочка с металлической пряжкой. Это была моя самая главная и заветная мечта.
Я недолго пробыла «деревенщиной» – пообтесалась довольно быстро. Девочкой я была сметливой, и жизнь хорошо научила меня приспосабливаться.
Тете Поле, ха-ха, написала я коротенько – так, без подробностей. Она мне ответила. Тоже убористо: «Поздравляю студентку!» И приложила перевод на десять рублей! Смешно… Я – оборванка. Пальто старое, куртка с заплатками на локтях. Два платья и кофточка – сшила соседка. Сапоги с раззявленной пастью и пара туфель. И все! Живи, студентка! Живи, юная дева! Обольщай женихов и кокетничай. От маминой щедрости…
Ну и пошла я мыть соседское общежитие – свое стыдно было. Хотя все, конечно, узнали. В общем, бюджет был такой: тридцать рублей степуха и тридцатка – за полы. Вполне ничего! Питались мы скромно: картошка, пельмени. Колбаска на праздник.
Все деньги шли на тряпье. Копили, кроили, ходили голодными… Но одевались! По крайней мере, старались идти в ногу со временем.
Жалкие были попытки и потуги, да. Но мы себе нравились – такие красотки!
В комнате нас было четверо: Надька Смолина, Зиночка Борщ, Залинка Курбаева и я.
Надька и Зиночка тоже приехали из села. Землячки, подружки. Друг друга всегда выручали и все на двоих. Деньги, одежда, обувь, еда. Правда, посылками из дома делились: сало на всех, картошка – туда же, в общий котел. А готовили на двоих: яичница, мясо, «жидкое» – так они называли первое.
Родители привозили им и мясо – по осени, когда резали поросят. Но холодильники у нас на кухне были старые, маленькие, вечно текущие. Хранить запасы там было немыслимо. Привезет родня мяса, девчонки нажарят, наедятся от пуза, а через пару дней отдают в общак – чтоб не пропало. Вот тогда наедались и мы.
Залинка Курбаева была дагестанкой. И еще сиротой. Мать и отец погибли. Но родня ее не забывала – и денег присылали, и одежду. Бесчисленные тетки, дядьки, братья и сестры. Не принято у них родню забывать. Залинка была доброй, открытой – деньги всем, без разбору, легко давала в долг, а потом про него не напоминала. Конечно, этим пользовались – особенно некоторые нахалки. Еще она покупала на всех сладости и мороженое, пекла вкусные пироги. И красиво пела народные песни. Мне она нравилась, очень. Как человек нравилась. Но дружбы – той, о которой я так мечтала, – у нас с Залинкой не получилось.
Почему? Да потому что слишком мы были разные! Только ей я рассказала всю правду про свою жизнь – про бабу, про Тоньку, про Полину Сергеевну и Королеву. От других утаила – стыдно было рассказывать правду.
Но, ангел-Залинка мать мою не осудила. Только вздыхала: «Лидочка, ты ее не суди! Может, именно там, в Москве, она и нашла свое счастье!»
«Ну и дура ты, Залинка! – взрывалась я. – Счастье!.. Подумайте только! Надо же: искала и нашла! В чужом дому за мытьем унитазов! А родные люди ей по фигу? Ну какое тут счастье, в селе? На печи да в холодном сортире? Какое там счастье – с неграмотной бабкой и вечно сопливой дочкой? Да и хлевом несет, да под ногами коровий помет. И телевизор работает плохо. И картошку надо копать… А как иначе прожить? Как выжить в деревне? А что в городе? Чисто, красиво. Асфальт. Горячая вода из-под крана, теплый сортир. Апельсины все кушают. Конфеты «Цитрон». Кофий пьют растворимый. С пирожным «эклер»! И резиновые сапоги не нужны, и ватник не нужен. И пахнуть ты будешь не хлевом, а духами. И на руках маникюр! И кинотеатры на каждом углу. И театров навалом. Кафе! Что ей в деревне, Полине Сергеевне? Что она, дура?»
А забыть нас – мать и дочурку – ей оказалось проще простого! Раз – и нету! Как ветром сдуло! Так, иногда вспомнит и копеечку вышлет. Ну, чтобы совесть дальше спокойно спала.
А так мы ей… не нужны! Я это давно поняла. А баба Маня еще «давнее».
А уж Полина Сергеевна! Так та… Да что говорить?.. «Честная» женщина – даже вида не подавала!
Пошли вы все… Ну мы и «пошли»…
– Злая ты, Лида, – однажды сказала Залинка. – Зря ты так про нее!
А я обиделась, и мы раздружились.
Было хорошо, но трудно. Впрочем, к трудностям я привыкла и не боялась их. Считать копейки умею, жить на три рубля в неделю и почти не голодать – тоже. Спокойно проходить мимо пирожных, выставленных в витрине. Просто отворачиваться, и все, очень просто. И в кино на самый ранний сеанс в субботу. Поспать охота, а кино, говорят, шикарное. А ранний билет стоит десять копеек! Как пропустить? Чулки я штопать научилась так, что все общежитие стояло в очереди. И беретки вязать, и кепочки – тогда это было модно. Шерсть мы покупали у спекулянтов, и модная кепочка обходилась недорого. А сколько на нее нужно мохера? С козырьками только была проблемка! Но голь на выдумки, как известно!.. Пошла я в поликлинику, в рентген-кабинет. И выклянчила у лаборантки старые пленки. Вырезала из пленки козырьки и обвязывала их мохером. Кепочки мои шли по пять рубчиков – вместе с шерстью и козырьками. Чистой прибыли оставалось рубля полтора. А при жесткой экономии – и все два!
Но довольно скоро клиенты мои закончились – все девчонки щеголяли в мохеровых кепках. Что делать? Где взять рынок сбыта? Идти торговать на базар я стеснялась. А вот Зиночка с Надькой нет! Они привыкли к базару и ничего зазорного в этом не видели. Родители часто их брали с собой – продавать клубнику, помидоры, картошку. Взяли они мои кепочки и пошли на базар. Продали! За день – пять кепочек! Только себе попросили за труды… половину. Вот тут я удивилась. Девчонки жили сытно, всего вдоволь, всего хватало. А я… Все же видели! Надька так и сказала: дружба дружбой, а денежки врозь. Ну и поделила я свои копейки, куда деваться…
И пригласила Залинку в кафе. Очень хотелось мне с ней помириться! Снова мое одиночество. Выбрала самое знаменитое и известное в нашем городе. Кафе называлось «Улыбка». Оригинальностью названия никто удивлять и не собирался – все точки общепита обозначали без фантазий: «Улыбка», «Светлячок», «Радуга», «Солнечное», «Радость», «У озера».
Кафе «Улыбка» находилось в самом центре, на площади. Вокруг – здание местного совета, райисполком, почта, центральный гастроном и, собственно, наша «Улыбка». Крутое место! Там собирались местные франты, золотая молодежь нашего города. Громко играла музыка – местный инструментальный ансамбль. Мы, девчонки из общаги, всегда чуть тормозили у двери кафе – непроизвольно. Ах, как хотелось нам зайти туда, сесть за столик, заказать шампанское и ждать, пока кто-нибудь из парней нас заметит и пригласит на медленный танец! А дальше… Дальше все закрутится, завертится и у нас случится любовь!
Мы нарядились – надели лучшие вещи. Накрасились и надушились. Надька с Зиночкой смотрели на нас презрительно. Фыркали и шушукались. Им было завидно, а идти туда страшновато. Да и денег жалели – кулàчки.
У кафе мы остановились и посмотрели друг на друга. Залинка моя чуть не плакала.
– А может, не надо, Лидунь? Давай зайдем в булочную, купим торт и – домой? Страшно мне как-то…
Я взяла Залинку за руку и потащила к двери.
В кафе было полутемно, очень накурено, душно и невыносимо пахло вином и по́том. Оглушительно гремела музыка, и возле крошечной сценки толпились и жались к друг другу танцующие пары.
Нас усадили за столик в углу, и официант, молодой и прыщавый парень, смотрел на нас со снисходительной и наглой усмешкой. Я изучала меню. Залинка хватала меня за коленку и умоляла уйти.
Но я мужественно, хоть и дрожавшим голосом, заказала салат столичный, лангет из свинины и два бокала вина.
Плотная пелена сигаретного дыма мешала разглядывать посетителей. Одним махом мы – конечно, со страха – осушили бокалы с вином и закусили салатом.
Залинка моя была белее мела. И я еще заказала вина! После второго бокала она раскраснелась и выдохнула. А когда нам принесли тарелки с горячим, к нашему столику подошел высокий и белобрысый парень в белой рубашке и джинсах.
«Джинсовый» парень пригласил меня танцевать.
От дыма, вина и духоты у меня сильно кружилась голова. «Джинсовый» крепко прижал меня к себе, и я закрыла глаза.
Я не танцевала – плыла. Плыла над землей, в голубых и светлых небесах, в прохладном и чистом потоке ветра, который обдувал мое горящее лицо. Я плыла над облаками, над нашим городом, темнеющим вдали. Я плыла над своими несчастьями, бедами, одиночеством.
Музыка кончилась, остановилась. А я… Я по-прежнему не открывала глаза и крепко держалась за плечи своего кавалера.
Очнулась от его тихого смеха:
– Ты что, заснула, красавица? Эй, просыпайся!
Я открыла глаза, чуть качнулась и посмотрела ему в глаза.
– Перебрала? – участливо спросил он. – Ну что ж, бывает. Тебе нужно на воздух, девочка!
– Я трезвая! – ответила я. – Просто…
Но слов для объяснения я не нашла. Потому что голова моя была светлой и абсолютно пустой. Звеняще пустой. А язык мой, неробкий и бойкий язык будто прилип к небу.
Парень кивнул, доставил меня до столика, где сидела перепуганная Залинка, и тут его окликнули.
«Джинсовый», не глядя на меня, бросил Залинке:
– Выведи ее! Ей плоховато…
И тут же рванул к своим друзьям – большой и шумной компании завсегдатаев.
К горячему мы не притронулись. Залинка от страха, а я… Я сидела как пришибленная. Смотрела в одну точку, словно меня заколдовали.
– Пойдем домой! – умоляла меня подружка. – Лидуся! Давай уйдем, а?
Я кивнула. Мы подозвали прыщавого официанта, рассчитались и пошли к выходу. У двери я обернулась – мой герой громко смеялся и обнимал тощую и томную блондинку.
Меня он не увидел. Я вздохнула и вышла на улицу.
В этот вечер я поняла, что влюбилась.
Тогда, в кафе «Улыбка», на втором курсе, я и познакомилась с Димкой.
То, что он Димка, узнала довольно быстро. Городок у нас маленький, все, как говорится, про всех…
Димка мой учился в ветеринарном техникуме, жил, как и я, в общежитии. Был он детдомовский, мой любимый Димка. Район, где находилось его общежитие, назывался Студилинка – раньше там была одноименная деревня. И считался этот райончик самым хулиганским и криминальным.
Ребят со Студилинки все боялись и обходили стороной. Я все время старалась попасться ему на глаза – нарезала круги перед ветеринаркой – так в народе называли его техникум, моталась по площади у кафе «Улыбка». И наконец он меня заметил. Окликнул, вроде бы вспомнил… И начался наш роман.
Мы ходили в кино, садились на последний ряд и целовались. Потом целовались в подъездах. В «Улыбку» Димка ходить запретил – там не место! – строго сказал он – для нормального человека. В смысле, девушки. Там снимают! Ты поняла?
А я, наивная дура, не поняла. Только кивнула – стыдно же было признаться, что не поняла.
Через три месяца наших шатаний Димка пригласил меня к себе в общагу.
Комнатка была нищей, убогой, но чистенькой, на две кровати. На столе стояли кастрюля с борщом и сковородка с котлетами. Мы пообедали и…
Уснули не скоро, под утро. Как провалились. А проснулись от стука в дверь – вернулся Димкин сосед.
Я перепугалась до смерти и смотрела на Димку: что же нам делать?
Димка махнул рукой и натянул свои джинсы. Да разберемся!
Я сидела ни жива ни мертва. Мне было стыдно.
Димка шептался с соседом за дверью, и я услышала слово «невеста».
А через полгода мы поженились. Ох, какая же я была счастливая тогда! Просто до одури!
Действительно – полная дура. Не понимала, что глупо ждать от жизни хорошего…
Но пока я счастливая! Он сирота, и я сирота. В общем, свадьбу справлять было не на что. Да и негде – на кафе денег не было совсем. Откуда у нас деньги? Ну, да ничего! Мы все равно были счастливые! Как я любила своего Димку! Господи, как…
Стол мы накрыли в общаге. Готовить помогли девчонки. И комнатуху нам отдельную выделили – за три рубля в месяц сговорились с комендантшей Шурой.
Комнатуха была в семь метров и без окна – только форточка. Но мы и этому радовались как дети… Мы были вдвоем! Итак! Живем мы с Димкой в общаге, и нам все нипочем. Мы – молодые. В комнатухе полуторная кровать, давно расшатанная нашими предшественниками. Журнальный столик – подарок девчонок – и стул числом один. Все! Холодильника нет, и зимой мы все хранили за окном. Но первый этаж, опасно: как-то увели у нас пачку пельменей – последнюю нашу надежду до самой стипендии. Поплакала я, погоревала, а потом стали мы с Димкой смеяться.







