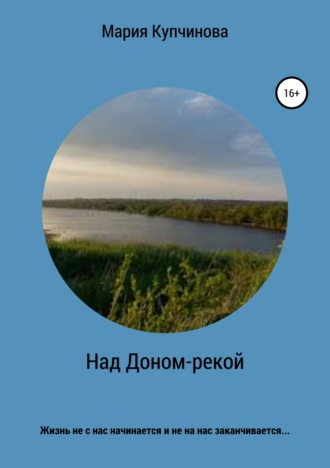
Мария Купчинова
Над Доном-рекой
Год 1919, канун Рождества
Где-то совсем близко раздалось несколько ружейных выстрелов. Варя вздрогнула, втянула голову в плечи, крепче прижала к груди брезентовую сумку и попыталась идти быстрее, хотя ботиночки с тонкой картонной подошвой предательски скользили по заледенелому тротуару.
Промозглая чернота, разлитая по улицам, точно кто-то там, наверху, перевернул ненароком огромный бак с адским варевом, становилась еще темнее от мелькнувшего огонька папиросы; свист ветра заглушал шаги, редкие прохожие казались призраками, а скукоженные точечки звезд прятались за чёрные тучи, не желая со своих высоких небес смотреть на то, что творится внизу.
Эти предрождественские дни были так не похожи на прошлогодние, что не верилось, будто и в правду была когда-то праздничная суета, радостное сияние огней, рождественское изобилие магазинов, пироги да блины, которыми с шутливыми присказками торговали разбитные мальчишки-разносчики и, главное, уверенность: скоро всё наладится, жизнь станет прежней.
А сейчас – фонари не горят, звук шагов за спиной вызывает страх: то ли большевики уже вошли в город, то ли бандиты…
Варю обгоняют согнутые тени, впряжённые в сани, гружёные котомками да мешками. Ни одного встречного: все – к Дону, в надежде успеть до прихода красных перейти реку по льду. Говорят, в Батайске Добровольческая армия закрепилась надолго. Говорят, говорят… Верить, конечно, хочется, а как оно там будет… Варя поправила серый шерстяной платок на голове, вздохнула.
Несколько дней назад в больницу приезжал генерал. В чинах Варя не разбиралась, но, судя по тому, как суетился перед ним главврач, как кивал головой:
– Всё сделаем, Александр Сергеевич, не сомневайтесь, – генерал был важным.
Обветренное, почти багровое лицо генерала, серые прищуренные глаза, спрятанные за очками с круглыми стеклами, не выражали никаких чувств, но Варе все равно казалось: ему зябко в распахнутой шинели из солдатского сукна на малиновой подкладке. Распахнутой специально, чтобы все увидели серебряный терновый венец с мечом на георгиевской ленте8. Знак этот словно давал генералу моральное право на тот приказ, который он привёз: эвакуировать медицинский персонал и, на усмотрение врачей, часть раненых вместе с отступающими воинскими соединениями.
Главврач принял решение эвакуировать среднетяжелых. Тех, кто наверняка выдержит переезд на подводах до Батайска, где стоит санитарный поезд. Раненые, которые могли ходить, ушли пешком, с тяжелоранеными, которые были в сознании, Варя и другие медсестры боялись встречаться глазами: такое отчаяние читалось на их лицах.
Никто не знал: доберутся ли раненые до Батайска и что их там ждет, но всем казалось: уже сейчас проходит деление на тех, кому суждено выжить, а кому – нет.
Сегодня они тоже весь день ожидали транспорт, а поздним вечером Варю подозвал врач в застиранном медицинском халате. На худом, посеревшем от постоянного недосыпания лице, выделялись крупный нос, тонкие губы с когда-то элегантной щеточкой усов да тяжелые мешки под выпуклыми черными глазами:
– Варвара Платоновна, ждать нечего, подвод больше не будет. Я назначил врачей и сестер, которые останутся в палатах с тяжелоранеными, а вам лучше уйти. Вы сделали всё, что могли. Слышал, у вас есть племянник?
– Да, Николай Алексеевич.
– Вот и уходите, пока не поздно, с ним за Дон. С мужчиной – надежнее.
Врач этот был хирургом – от Бога. Четыре года назад он переехал в Ростов с Варшавским университетом, в прошлом году стал заведовать клиникой госпитальной хирургии в Донском университете. И теперь у Вари не укладывалось в голове: как она, простая сестра милосердия, уедет, а он останется, быть может, погибнет…
– Но… как же вы?
Николай Алексеевич резко отвернулся, заканчивая разговор:
– Поторапливайтесь, Варвара Платоновна. Мы – как Бог даст. Может, обойдется…
Обойдется… За последние два года власть в городе менялась часто. В начале восемнадцатого – два с половиной месяца правили Советы. Варя наизусть выучила рассказ невестки, как ночью в дом ворвалась вооруженная группа солдат с требованием сдать золотые монеты и драгоценности. Елизавета Александровна, рассказывая, каждый раз начинала всхлипывать, тереть кружевным платочком глаза, причитать:
– Всё перерыли: в комодах, шкафах, в любимом бюро Степы каждый ящичек простучали: двойные стенки искали, перины перещупали, даже пианино не пожалели, – в этом месте Елизавета Александровна начинала победоносно улыбаться, – а то, что я драгоценности, оставленные батюшкой, в лифчик Ленке, горничной, засунула, у той грудь в три раза выросла – не догадались. Я так и думала: свою они не заподозрят.
Люди шептались: в районе Балабановских рощ каждый день находили десятки расстрелянных. Стреляли и на улицах. За что? Иногда просто так: померещилось что-то недоброе во взгляде… Красных сменили немцы, потом красновцы, вернулись добровольцы после Ледяного похода. А в Балабановских рощах опять расстрелянные, и на Большой Садовой повешенные на столбах. Говорят, епископ Арсений лично звонил коменданту города, прося убрать с центральных улиц трупы повешенных большевиков накануне Рождества.
Обойдется? Прав был Вася: вековая ненависть с одной стороны и вековое презрение с другой… Кто их примирит…
Вася приехал из госпиталя летом семнадцатого. Уходил на войну романтично настроенный юноша, вернулся – угрюмый мужчина в выгоревшей гимнастерке. Левый рукав выше локтя подвернут и заколот булавками.
Степан не дождался сына: в начале шестнадцатого года тяжело заболел воспалением легких и уже не поднялся с постели, угас. Елизавета Александровна поначалу сыну обрадовалась, но сумрачный, вечно небритый, с провалившимися щеками, он мешал ей бездумно радоваться окружающей жизни, смущал и скептическим отношением ко всему тому, что казалось Елизавете Александровне важным, и своим увечьем, которое Елизавета Александровна не хотела принимать.
Привыкнув за годы войны к бесконечным раненым, Варя не вздрагивала при взгляде на пустой рукав, в отличие от невестки бесконечно не причитала: благодарила Бога, что племянник вернулся живым. Васе с ней было легче, хотя и Варю он сразу предупредил:
– Не спрашивай, ладно? Воевал – как все, не лучше, не хуже. Когда-нибудь, быть может, расскажу, но не сейчас.
Варя не спрашивала. Лишь однажды не удержалась, увидев Васину заметку в «Маленькой газете», выпускаемой на деньги Николая Елпидифоровича. «Маленькая газета», содержала все разделы больших газет, а злости, изливаемой ею на большевиков, хватило бы на несколько крупных изданий.
– Вась, ты на чьей стороне? За кого?
Вася взмахнул остатком искалеченной руки, раздраженно ответил:
– Вот это позволяет мне не быть на чьей-либо стороне. Я, Варя, за себя и за тебя. Мало?
Помолчал и заговорил уже спокойнее:
– Правду тебе сказать, я и сам не знаю: за кого. Когда ехал домой из госпиталя, пристал ко мне в поезде мужичок. Тоже, видно, повоевавший, фронтовой каши вкусивший. И до того он меня попрекал да изводил, с какой-то злой радостью, точно из-за меня поражения на всех фронтах случились, и Государь Император из-за моего скудоумия отрекся… Я его спросил: «За что ты так ненавидишь меня? Мы же в одних окопах вшей кормили, и я за твою спину в бою не прятался». А он так спокойно, с растяжкой в ответ: «За то ненавижу, что ты, барин, мне «ты» говоришь, а самого передергивает, когда я в ответ «тыкаю», да про «ваше благородие» не вспоминаю. Ты как был барином, так и остался, сколько бы вши тебя не ели. И бесит тебя, что я себя равным считаю…». Помолчал и добавил: «То, что веками копилось, ни за месяц, ни за год не изживешь. Даст Бог, наши дети или внуки равными станут, а может, и тогда кто-то обиду припомнит…»
Вася задумался.
– А знаешь, Варя, я ведь и правда, хоть убей, не мог заставить себя сказать ему: «вы». В юности мы с Петькой, с Николаем были за какого-то другого мужика, а не за этого, наглого и фамильярного…
Больше к этому разговору не возвращались, но Варя радовалась каждому Васиному посещению. Ей казалось: он понемногу оттаивает, бытовые заботы о хлебе насущном отодвигают боль утраты на второй план.
Вот и сейчас Варя немного успокоилась, подойдя к дому и разглядев в щелку между неплотно задернутыми шторами колеблющийся огонек свечи: Вася пришел.
Прямо в дверях громоздилась пара обшарпанных чемоданов, хмурый Вася стоял у окна, а на диване в длинном пальто, с цветастым платком на плечах сидела молодая женщина, судя по виду, на последнем сроке беременности.
– Добрый вечер, гости дорогие.
Вася обернулся:
– Да уж, добрее и ожидать трудно, – показал рукой на беременную женщину. – Это Лена. Она с нами поедет.
Заговорил, горячась:
– Только подумай, Варя, что матушка выкинула. Сговорилась с баронессой Штром уехать на машине. Ладно, меня в последнюю минуту предупредила, дескать, мест нет – не рассчитывай. Но Лене-то выговорила: «От беременных в дороге никакой помощи, одна обуза».
Женщина в пальто с трудом поднялась, сделала несколько шагов и упала перед Варей на колени:
– Христом Богом прошу, не гоните, Варвара Платоновна. Страшно мне одной. Уж так страшно. А Сашка-то шевелится уже, скоро наружу запросится. Я, клянусь, в тягость не буду. Все сделаю, что скажете, только не оставляйте меня. А Сашку я родить должна, в церкви поклялась, – по простому испуганному личику текли ручейки слёз, оставляя на щеках светлые бороздки.
– Что вы…
Растерявшаяся Варя попыталась поднять плачущую, но она упорно цеплялась за полы ее коротенькой шубейки и приговаривала:
– Не гоните, Варвара Платоновна, позвольте с вами быть.
– Конечно, Лена, конечно, – Варя с напряжением всё-таки посадила нежданную гостью на диван, кивнула головой Васе, прося выйти в переднюю.
– Вась, я правильно поняла: Лена – ваша горничная? Объясни толком: кто такой Сашка, и вообще, кто отец ребенка? Ты?
– Хорошего же ты обо мне мнения, тётушка, – усмехнулся Вася. – Да просто: пожалела наша Лена какого-то солдатика. Он перед тем, как уйти, наказал: «Девка или парень будет, назови Сашкой, чтобы знал я: не зря жизнь прожил». Уж не знаю, где она там в церкви клялась, но, может, и правда: жизнь продолжаться должна, даже когда всё против…
– Уверен, что надо уезжать?
Вася не ответил, и Варя не стала настаивать:
– Давайте чай пить, утром разберемся. Кондитерская Филиппова, увы, не работает, но хлеб я принесла.
– Я заварю, где у вас чайник? – Лена поднялась с дивана, роняя на пол платок, с трудом приседая, чтобы поднять его.
– Нет, Леночка, сегодня вы – гость, но пальто снимите, – Варя пристроила пальто на вешалку в передней. Вешалка, на которой висело уже два пальто, покачалась – покачалась и с шумом рухнула на пол, всем своим видом демонстрируя: когда рушится жизнь, и ей, деревянной, отставать – не след.
– Пусть, – махнула Варя рукой, – не было бы большей беды.
– Пешком мы далеко не уйдем, – озабоченно сказал Вася. – Я попробую завтра утром поговорить с Николаем.
Усмехнулся:
– Вот ведь человек… Сначала против царя был, чуть в тюрьму не угодил. В восемнадцатом при Краснове вошел в правительство, управлял Отделом торговли и промышленности. Да Краснов немцам за поддержку зерно обещал, а Николай отказался: «Хотите донское зерно – берите, но мешки не дам». Теперь уже немцы его в тюрьму посадили. Атаман «Всевеликого войска Донского» брошюрки социалистические вспомнил и выразил Николаю недоверие. А в феврале следующего года Николай в составе Войскового Круга принял отставку Краснова. Потом при Деникине – управляющий отделом пропаганды, но, видно, и тут отношения не сложились. Слишком уж самостоятелен и строптив…
Варя вздохнула:
– Лишь бы согласился взять с собой. Я загляну утром в больницу, возьму кое-какие лекарства, судя по всему, – взглянула на Лену, – могут пригодиться.
Им казалось: время в запасе еще есть.
***
Разлилось небо над Доном. Высокое, далёкое… Звёзды в реке колышутся, щука плещется, хвостом бьет, срывая с крючка наживку… В серовато-лиловой дали размыты очертания берегов, смотришь сквозь туман, не разберешь: закат ли, рассвет…
Босиком ступая по шелковистой траве, прошла казачка по воду. Ойкнула, шагнув в прохладную воду, не снимая коромысло с плеча наклонилась, наполняя ведра. Тонкие щиколотки мелькнули и спрятались под оборкой длинной малиновой юбки…
На берегу у реки татарник алеет. Колючка-недотрога, а малиновые головки цветов для сердца милее розы…
Мысли путаются. Неужто закат такой ранний? Или поздний восход?
И Варя, Варюшка в красной кофте с баской нагнулась, выбирая на мостках рыбу…
– Прости меня, Варенька, изломал я наши жизни.
***
– Варвара Платоновна, взгляните, будьте любезны… Не в себе солдатик, что ли?
Красные в городе или белые, дорожки от снега вместо дворника никто не почистит. Акимыч всего пару раз взмахнул лопатой, да и приметил возле скамейки на снегу человека. Без шапки, на ветхой солдатской шинели погоны срезаны, на ногах драные опорки, а тонкие, смуглые пальцы рук беспокойно шевелятся, словно ищут что-то…
Варя подошла, наклонилась, с трудом удержалась от вскрика:
– Николай Алексеевич пришёл уже?
– Так и не уходил он.
– Акимыч, пожалуйста, найди его, позови…
Дворник пригладил усы, отставил лопату в сторону:
– Не беспокойтесь, Варвара Платоновна, сделаю.
Опустившись на колени, сорвала с себя платок, положила солдату под голову, взяла руку, чтоб проверить пульс, не удержалась, прижала холодную ладонь к губам…
– Что, ещё один неизвестный? – заскрипел снег под сапогами врача. – Варвара Платоновна, почему вы здесь? Я же вас вчера отпустил.
– Помогите, Николай Алексеевич, пульс еле слышен…
– Сейчас, сейчас…
В смотровой хирург огорченно развел руками:
– Обидно сознавать себя не волшебником. У пациента гангрена в результате осколочного ранения ноги. Недавно перенесенный тиф дал осложнение на сердце. Да и не молод уже. Боюсь, шансов нет.
– Ампутация? – вздрогнула Варя.
– И ампутация не поможет. Я вообще не понимаю, как он дошёл сюда. Не мог он с такой ногой и шага сделать, падал бы, кричал от боли… А для операции – время упущено.
– Николай Алексеевич, – Варя не заметила, как схватила доктора за рукав, развернула к себе лицом, – я вас очень прошу, не отказывайтесь, давайте попробуем. Я буду вам ассистировать. Он сильный, раз дошел сюда, выдержит.
– Думаете? – хирург вздохнул, размял кисти рук. – Может, вы и правы. В конце концов, очереди в операционную у нас нет. И раз уж дошёл… Записывайте в операционный журнал: неизвестный солдат, возраст за шестьдесят… Господи, кто же его воевать взял в таком возрасте…
– Степцов Харитон Трофимович, – поправила Варя, – пятьдесят восемь лет.
– Варвара Платоновна, это ваш знакомый? – догадался хирург и помрачнел. – Но вы же понимаете: шансов на то, что мы ему поможем – почти нет.
– «Почти» – уже что-то, – Варя упрямо посмотрела собеседнику в глаза, – давайте оперировать, Николай Алексеевич.
– Ну, будь по-вашему…
***
«Помнишь Митьку, Варюша? Летал воробушек по холерному бараку, крошки клевал… Почему-то думалось: он – та ниточка, которая между нами протянулась, а оказалось – наоборот… Как больно, Варя… Почему я всегда терял тех, кого больше любил? Тебя, Дашеньку…
Серый туман заволок глаза. Едва видны плоскодонки на реке. Но восход ведь будет, правда, родная? Бледно-розовые, нежно-оранжевые, палевые… чем выше, тем светлее небеса…Может, и душа: пройдет сквозь боль, и, чем ближе к небу, тем спокойнее… Так ли?
Увезти бы тебя с собой. Чтобы студил щёки рассветный ветер, легкими всплесками шептала река, вдалеке кулики посвистывали, а из камышей, вытянув длинные шеи, подсматривали за нами любопытные цапли…
Как думаешь, Варенька, воробейка наш выжил?..
***
Сколько времени прошло после операции Варя не знала. Ей казалось: всю свою жизнь она вот так сидела рядом, читала молитву за молитвой, по-бабьи взывала: «Господи, умоляю тебя, спаси его», – и быстро-быстро крестилась. Такое родное, любимое лицо казалось безжизненным: пожелтевшая сухая кожа, впалые закрытые глаза, разбросанные по подушке отросшие седые волосы, седая, давно нестриженная борода… Время от времени крылья носа, заострившегося на истощенном лице, вздрагивали, губы приоткрывались, вырывалось какое-то бормотание, и опять лишь едва заметно вздымалась грудь.
Несколько раз заходил Николай Алексеевич, щупал пульс, вздыхал. Последний раз сказал:
– У нас, к сожалению, не осталось лекарств для стабилизации сердечной деятельности. Хорошо бы, когда придет в себя, несколько глотков шампанского – поддержать сердце, да где же взять…
Варя побежала в дворницкую, высыпала в руку Акимыча все деньги, которые были в сумке:
– Акимыч, родненький, найди…
– Попробую, Варвара Платоновна, – почесал затылок Акимыч, – но не обещаюсь. Непростое дело. А к вам давеча, как вы на операции были, племянник заходил.
– Да… – Варя вспомнила, что ее, наверное, ждут. – Акимыч, если вдруг опять зайдет, скажи, пусть едут без меня. Я тут останусь.
– Да что же… Сказать – не трудно, – кивнул головой Акимыч, – а по вашей просьбе, Варвара Платоновна, я расстараюсь.
– Варенька… воробейка выжил? – едва различимо донеслось с койки, когда Варя вернулась в палату.
Лавиной прорвались слезы. Непрошеные, нежданные они струйками текли с Вариных щек на лицо Харитона. Склонившись над раненым, Варя то пыталась вытереть их, то целовала, шептала:
– Где же ты был так долго, где же ты был…
Да разве в двух словах перескажешь, где был… По распоряжению Николая Елпидифоровича поднялись на палубу чужие люди, объявили: баржа переходит в Донскую флотилию ВВД9, установили на борту трехдюймовки, пулеметы… Морские офицеры, пробравшиеся в Ростов из Севастополя, с Балтики рвались воевать «за единую и неделимую», отношения между командой баржи и экипажем из добровольцев накалились до предела… Бывший капитан – лишь хотел сохранить судно, на котором плавал, да не сумел… Баржа села на мель, горячие флотские офицеры обвинили его в диверсии, грозились расстрелять, сжалившись, отправили в деникинский лагерь для пленных под Азовом… В лагере всех валили с ног тиф и голод. Охранники, приняв потерявшего сознание пленного за умершего, просто выбросили Харитона из барака в ров, а ночью он встал и пошел… Вслед стреляли; он падал, поднимался и шёл, сколько мог…
Пересохшими губами с трудом шепнул:
– Я шел к тебе, Варенька.
Как же много им надо сказать друг другу. То, о чем молчали всю жизнь…
– Варенька… – насколько хватило сил, сжал когда-то тонкие пальцы, огрубевшие от постоянной работы, попытался поднести к губам, но руки не слушались.
Пронеслась перед глазами степь с её долгими пыльными дорогами да сивым ковылем, закачалась утлая плоскодонка на волнах… Неужели закат всё-таки? И больше никогда уже не увидеть, как цветет татарник в степи?
Самое главное бы успеть сказать. С трудом выдохнул:
– Прости, родная. Любил я тебя. Всю жизнь любил…
Посмотрел в испуганные широко распахнутые Варины глаза, слабо улыбнулся:
– Нелепо жизнь прожил, да уже не изменишь. Не плачь обо мне, любимая.
Пальцы разжались…
– Варвара Платоновна, не поверите, нашел!
Хлопнув дверью, в палату, помахивая зелёной бутылкой, ворвался Акимыч. И тут же неловко отступил назад, увидев, как вздрагивают от беззвучного плача Варины плечи, перекрестился:
– Неужто опоздал?
Варя обернулась:
– Оставь себе, Акимыч, помяни раба божьего Харитона.
Медленно стащила с головы косынку, вынула из ушей серьги, подарок бабиньки, протянула:
– Всё, что осталось. Помоги, Акимыч, похоронить по-человечески: могилу выкопать, гроб, крест, священника позвать надо…
– Экая вы, Варвара Платоновна, – укоризненно покачал головой дворник, взяв сережки. – Кто же в такое смурное время золото в ушах носит? Что смогу, сделаю, а только воля ваша: не стал бы я крест ставить. Красные свежий крест увидят, решат, что белый генерал похоронен, дальше сами знаете…
***
Тишина в пустом городе сжимала сердце, давила на уши. Казалось странным, даже невозможным, что когда-то по булыжным мостовым цокали подковы лошадей, громыхали телеги, лязгали трамваи, в которых азартно и громко переругивались кондуктор с пассажирами, звенящими голосами о чем-то спорили гимназисты…
В ушах раздавался лишь глухой стук комков заледенелой земли о гроб. Вдруг вспомнилось, как в другие годы плыл в эти часы над городом колокольный перезвон, как благостно спешили на службу в церковь… Не было перезвона, не было, похоже и священников в городе. Как ни старался Акимыч, так и не смог привести священника. Она сама прочитала над Харитоном молитву, перекрестила. Почему-то подумала, что больше никогда уже не сможет заплакать…
Дома, как ни странно, горел свет. Вася стоял у зашторенного окна, Лена сидела на диване, словно ничего и не случилось за этот длинный день…
– Варя, как хорошо, что ты вернулась, – Вася бросился к ней, стал расстегивать шубку, помогая раздеться, – а я уж все глаза проглядел. И Лену боюсь одну оставить, ей кажется: у нее схватки начались. Где ты была так долго?
– Почему вы не уехали? – Варя тяжело опустилась на диван, закрыла глаза. – Ты ходил к Николаю?
– Да. Знаешь, лишний раз восхитился: какое все-таки изящное здание Эберг выстроил! Как хороша эта колоннада у парадного входа, расходящаяся в стороны четырехмаршевая лестница… А зимний сад, центральный зал под стеклянным фонарем, фонтан на заднем дворе…
Вася бы еще долго и многословно перечислял достоинства особняка, если бы Варя не перебила:
– Ты договорился с Николаем?
Вася осторожно взглянул на Лену:
– Нет, они уже уехали в Новороссийск. Во всяком случае, мне так сказал сторож.
С удивлением Варя почувствовала, что не в силах даже расстроиться:
– Что же мы теперь будем делать?
Вася вздохнул, почему-то вспомнил мусор на коврах в особняке Николая, опрокинутое в спешке растение в кадке, гулкое эхо, разносящееся по анфиладе комнат и твердо ответил:





