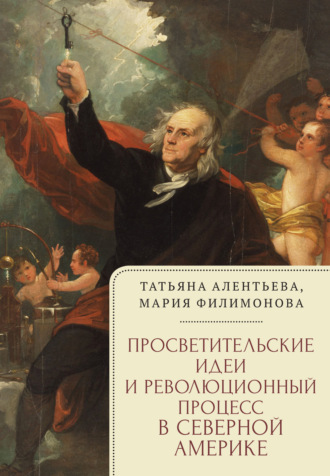
Мария Филимонова
Просветительские идеи и революционный процесс в Северной Америке
И если Георг III мог противопоставляться королям династии Стюартов, то уже на ранней стадии англо-американского конфликта правящий монарх мог также ассоциироваться с ними. Возможно, что нынешний король мудр, справедлив, патриотичен, – рассуждала «Boston Gazette». Но где гарантия, что его преемники будут такими же?[276] Широко известно высказывание П. Генри, относящееся к 1765 г. 30 мая он произнес речь, восхитившую одних слушателей и безмерно шокировавшую других. Он заявил: «Тарквиний и Цезарь каждый получили своего Брута, Карл I – Кромвеля, Георг III…» Оратора прервал крик: «Измена!» Но он невозмутимо окончил фразу: «Георг III должен бы извлечь из этого урок»[277]. Джефферсон – в то время безвестный молодой человек, стоявший у входа в зал заседаний Палаты бургесов, – навсегда сохранил яркое воспоминание об этой речи: «Мне казалось, что он (Генри. – М.Ф.) говорил так, как Гомер писал»[278]. Зато виргинский губернатор Ф. Фокье (1758–1768) счел язык выступления Генри «неприличным»[279]. Образ короля здесь амбивалентен, это потенциальный «король-патриот», но и потенциальный тиран. Сходным предупреждением-напоминанием служили слова С. Адамса: «Мы знаем, что короли, и даже короли английские, теряли короны и головы за присвоение себе права [налогообложения]»[280]. К 1775 г. эти первоначальные сомнения в соответствии Георга III идеалу «короля-патриота», реминисценции из английской и античной истории, дурные предчувствия кристаллизовались в лозунге «Король-патриот или никакого короля в Британской Америке», а затем и в свержении монархии[281].
Действия Георга III, которые не всегда удавалось истолковать как результат ошибки или заблуждения, уже в 1760-х гг. разрушали наивный монархизм. «Boston Evening Post» приводила многозначительную цитату из речи епископа Солсберийского (1609): «Король перестает быть королем и вырождается в тирана, как только перестает править по закону. В этом случае совесть короля может сказать ему то же, что бедная женщина Филиппу Македонскому: “Или правь по закону, или перестань быть царем”»[282]. И уж совсем не верноподданнически звучал «тост на январь XXX», напечатанный в «Boston Gazette»: «Пусть все политики, которые возвышают королевскую прерогативу на руинах общественной свободы, встретят судьбу лорда Страффорда. Пусть все священники, которые ставят церковную власть выше чрева совести (sic!), взойдут на эшафот, подобно архиепископу Лоду. Пусть все короли, которые прислушиваются к таким политикам и таким священникам, лишатся головы, подобно Карлу I»[283].
Авторитетный У. Блэкстон приводил старую максиму: «Король не может поступать дурно»[284]. Однако в жизни это не так, и английская правовая мысль создала рядом с монархом фигуру «злого советника», который и ответствен за возможные политические перекосы. Например, тему монарха, «обманутого ловкими и злонамеренными людьми», поднимал в своей памфлетистике Свифт[285]. 17-е из влиятельных «Писем Катона» было специально посвящено «злобным и отчаянным министрам» и способам, которыми они могут поработить страну[286]. В вигской пропаганде «злые советники» Георга III играли первостепенную роль. Образ короля мог быть амбивалентным. Образ парламента эволюционировал от «светлого мифа» к «черному». Но образу министерства свойственна предельная однозначность: он всегда негативен[287]. «Boston Evening Post» пускалась в рассуждения: английские министры выросли «при превосходнейшей форме правления в мире», «под властью лучшего из государей, когда-либо занимавшего трон», получили обширное образование, в том числе в области конституционализма. Учитывая все это, они должны быть «могущественными защитниками свободы и общих прав человечества». Но ничего подобного на самом деле не было[288]. «Boston Gazette» поминала недавние времена Гербового акта, «тиранию старого Гренвилля и его хунты»[289]. Министерство воспринималось как неизменно враждебное по отношению к колониям и в конечном счете – по отношению ко всей Британской империи. Именно об этом говорилось в письме от джентльмена из Лондона, которое опубликовала «Boston Evening Post»: «Мы не решаемся сказать, какие меры примет парламент, но совершенно убеждены, что министерство против вас»[290]. Виги были уверены, что есть особый «министерский язык», который все действия американских колонистов представляет как мятежные[291].
Отчасти эта тема звучала как реминисценция все из того же Болингброка. В описании узурпации власти, которое давал Болингброк, почти равную роль играли «необузданный нрав» монарха, «совет какого-нибудь злонамеренного министра», подстрекательство «своекорыстной группировки» и поддержка постоянной армии[292]. По меньшей мере, три из этих элементов американские виги с ужасом видели у себя. Не менее характерным как для Болингброка, так и для американской вигской пропаганды был мотив коррупции в министерстве. «Идея о короле-патриоте» была написана около 1738 г., в период т. наз. «робинократии». Такое название получил в английской истории период министерства Р. Уолпола (1730–1742) и связанная с ним система коррупции, лести, распределения пенсий и должностей. Болингброк описывал это так: «Министр проповедует подкуп – постоянно и вслух, подобно громогласному миссионеру порока; некоторые же не только намекают, но подчас и преподносят скрытые уроки того же самого»[293]. Тема «злых советников» поднималась и в других произведениях английского Просвещения. В созданной сатирическим пером Свифта академии Лагадо «предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных; научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги; учить монархов познанию их истинных интересов, которые основаны на интересах их народов; поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их, и множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыс-лящих»[294]. Контраст с реальной действительностью «робинократии» был очевиден для всякого современника. Джон Гей в «Опере нищего» откровенно намекал на Уолпола, выводя персонажа под именем «Робин Хапуга, он же Образина, он же Грубиян Боб, он же Чирей, он же Боб Рвач»[295]. Теперь готовый образ «робинократии» применялся вигскими пропагандистами к новой ситуации. «Boston Evening Post» передавала анекдот об английском военном министре, который якобы заявил на торжественном обеде, что смотрит на государство, как «на большой сливовый пудинг, и пока остался хоть кусочек, полон решимости получить свою долю»[296].
Несмотря на географическую удаленность, министерство казалось вездесущим. Автор под псевдонимом «Гиперион» выстраивал конспирологический дискурс: «Разве не множатся среди нас с каждым часом пенсионеры [двора], оплаченные чиновники и наемники, чтобы пировать на останках несчастной Америки? Разве не приносит каждый восточный ветер какое-нибудь новое насекомое из той самой прожорливой породы, что уничтожает всю зелень? Разве не взят хлеб у детей и не брошен псам?»[297]
В духе просвещенческого механицизма таких министров и таких ставленников двора можно было бы заменить автоматами. Автор под псевдонимом «Англичанин» приводил рассказ о неком мелком немецком принце, который не хотел разорять подданных налогами и завел себе армию из 40 восковых солдат, приводимых в движение часовым механизмом. И почему бы в Великобритании не завести восковых придворных и восковое министерство?[298] Живые же министры были определенно неспособны действовать во благо империи. В феврале 1768 г. в «Boston Gazette» было помещено ироническое эссе о пользе плохих министров. В частности, принимая тиранические меры, они побуждали народ отстаивать собственные права. Так родились Великая хартия, Habeas Corpus, Билль о правах. «Хотя плохие министры – проклятие времени. Но для последующих веков они приносят некоторую пользу. Они стоят в истории, как бакены, и предупреждают о тех скалах, о которые разбились наши предшественники», – рассуждала газета[299].
В остальном политика министерства, безусловно, гибельна. «Essex Gazette» восклицала: «Милая Британия! Что станет с тобою, если такая вот министерская власть продлится хотя бы еще немного?»[300]
Армия также является важнейшим политическим и социальным институтом любого государства. В отношении общества к ней сказывается принятие или непринятие государственности в целом. В 1767–1770 гг. постоянная профессиональная армия стала предметом оживленного обсуждения в американских колониях. Более того, именно имидж армии стал во многом тем рычагом, при помощи которого С. Адамс и его единомышленники-виги смогли разрушить традиционные представления колонистов об имперской власти.
В этом американские виги также опирались на наработки европейских просветителей и английскую конституционную традицию. С. Адамс ссылался на «Петицию о праве» и «Билль о правах», где говорилось, в частности, о недопустимости постоянных армий в мирное время[301]. «Boston Gazette» помещала рассказ о Свифте, который «питал смертельную антипатию к постоянным армиям в мирное время и держался мнения, что наши свободы никогда не будут установлены на прочном основании, пока не возрожден древний закон, по которому наши парламенты переизбираются ежегодно»[302].
В английской политической литературе (в том числе у Свифта) тема постоянной армии действительно занимала почетное место. Правда, важнейший для американских вигов 1760-х гг. авторитет – Локк – не занимался проблемой постоянных армий специально. Однако в «Мыслях о воспитании» он с сочувствием писал о практике древних народов выбирать своих полководцев из среды людей сугубо мирных профессий: «Гедеон у евреев был взят от молотила, а Цинциннат у римлян – от плуга, чтобы командовать войсками их стран против врагов; очевидно, их умение искусно управлять цепом или плугом и хорошо работать этими инструментами не мешало им искусно владеть оружием и не делало их менее способными в делах войны и государственного управления. Они были великие полководцы и государственные люди и в то же время сельские хозяева»[303].
Зато теоретики начала XVIII в. подробно разработали данную проблему. Для Болингброка постоянная армия была явлением того же порядка, что бедность народа и коррупция. Содержание такой армии – «порочная политика»[304]. Джонатан Свифт рассматривал проблему постоянных армий в 20-м номере «Examiner». Он противопоставлял современности пример греческих полисов и республиканского Рима: «Армии этих государств состояли из их собственных граждан, которые не брали платы, потому что война непосредственно их затрагивала… и не отличались от прочего люда»[305]. Происхождение наемных армий Свифт возводил к двум источникам. Первый из них: наемники были механизмом узурпации власти для различных тиранов в греческих и итальянских республиках. Второй: крупные государства использовали наемников для покорения отдаленных земель. Следовательно, наемные армии были опасны для политической свободы. Писатель особо подчеркивал необходимость абсолютного подчинения военной власти гражданским властям[306]. Показательно, что в Бробдингнеге, во многом воплотившем представления автора об идеальном государстве, постоянной армии не было. Зато имелось ополчение, состоявшее из купцов в городах и из фермеров в сельской местности[307].
Обращались к данной теме и французские просветители. Монтескье неодобрительно упоминал «многочисленные постоянные армии, которые содержатся даже тогда, когда они совсем бесполезны и служат лишь удовлетворению тщеславия»[308]. Писал на данную тему и Вольтер. В «Кандиде» (1759) солдаты-наемники предстают как устрашающая и губительная сила. Они мучают, убивают, насилуют – словом, ведут себя именно так, как вели себя солдаты английского гарнизона согласно вигскому дискурсу[309].
Итак, в просвещенческой политической мысли существовал определенный консенсус по вопросу о постоянных армиях. В рамках сложившейся парадигмы американские виги и восприняли появление в колониях английских регулярных войск.
Первые сведения об их скором прибытии относились к 1767 г. и носили довольно спокойный характер. В «Boston Gazette» печаталось сообщение из Лондона, в котором расквартирование войск в Америке представлялось пустяком, всего лишь заменой некоторых гарнизонов, давно уже служащих в Америке. Подчеркивалось, что расквартированию подчинились без возражений все американские колонии, кроме Массачусетса и Нью-Йорка[310]. Однако с течением времени перспектива прибытия солдат воспринималась как все более угрожающая. Уже в августе 1767 г. «Boston Gazette» сообщала о бесчинствах британских офицеров, имевших место в Элизабеттауне (Нью-Джерси). Поводом к конфликту было требование колонистов к офицерам заплатить долги. Оскорбленные офицеры разбили окна в молельном доме, здании суда, а затем пытались вломиться в тюрьму[311]. В октябре того же года газета писала о попытке насильственной вербовки моряков в Виргинии. Некий капитан Морган высадился с этой целью в г. Норфолк и начал хватать всех встречных. Его планам воспрепятствовали горожане под водительством магистрата Пола Лойала[312]. Данная история была, вполне возможно, вымышлена. Обращают на себя внимание «говорящие» имена действующих лиц: злобный капитан, видимо, не случайно носит фамилию знаменитого пирата, а его антагонист назван Loyal (верный, лояльный). Тем не менее, насильственная вербовка была действительно обыденной практикой в британском флоте, и американцы об этом знали.
Когда же английский гарнизон в самом деле разместился в Бостоне, виги решили, что все их опасения оправдались. (Хотя солдаты не заняли бостонскую ратушу, как предрекал С. Адамс[313].)
В бостонских газетах появилась постоянная рубрика «Дневник времен» (Journal of Times), посвященная бесчинствам солдат. В качестве основного автора «Дневника времен» обычно называют Сэмюэля Адамса; возможно, в публикациях участвовали также городской клерк Уильям Купер, будущий генерал Континентальной армии Генри Нокс; редакторы Бенджамин Идес, Уильям Гринлиф, Исайя Томас. Вероятно, Джон Адамс или Джосайя Куинси помогали авторам юридическими консультациями[314]. Сообщения распространялись с редкой по тем временам оперативностью. В понедельник очередной выпуск «Дневника времен» появлялся в бостонских газетах, прежде всего в «Boston Evening Post», в четверг его перепечатывала «New York Journal», в субботу – «Pennsylvania Chronicle». Сама по себе публикация была инновационной. Профессиональных репортеров в то время не существовало, как не было и постоянных рубрик в колониальных газетах. Непрерывная серия репортажей на одну тему должна была создавать у читателей цельный образ города, оккупированного враждебной армией.
Поведение солдат подвергалось критике по нескольким направлениям. Чаще всего упоминалось о нарушениях принятых в колониях норм поведения. Для американцев XVIII–XIX вв. чрезвычайно значимым было соблюдение «дня субботнего» (в их традиции соответствующим словом – Sabbath – обозначалось воскресенье). Соответственно, одна из претензий к солдатам – военные парады по воскресеньям[315]. Они также обвинялись в нарушении общественного порядка в обычные дни недели. В одном из сообщений говорилось о том, что солдаты помешали заседанию верховного суда колонии своими флейтами и барабанами. Верховного судью Т. Хатчинсона осуждали за то, что он не пресек «неподобающий шум»[316].
Продолжали публиковаться материалы о насильственной вербовке. «Boston Evening Post» рассказывала трагическую историю. Молодой человек, который был насильственно завербован в королевский флот с корабля капитана Халма, пытался вплавь сбежать с военного судна в феврале 1769 г. Однако холодная вода и необходимость пробираться через льдины оказались для него непосильными испытаниями. Его мертвое тело нашли в бостонской гавани на следующее утро[317].
Третьим повторяющимся мотивом были обвинения солдат в разрушении революционных символов – «столпов свободы» и «деревьев свободы». Так, в Дедхэме некий военный подозревался в разрушении столпа свободы. Он был высокомерен, «ненавидел свободу»[318]. Покушение солдат на бостонское «древо свободы» – роскошный старый вяз, облюбованный вигами как ориентир для встреч и политических процессий, – было, видимо, результатом провокации. Солдатам (ирландцам по происхождению) рассказали, будто «Сыны Свободы» собираются повесить на древе свободы чучело св. Патрика. Возмущенные солдаты пришли к ненавистному вязу с топорами и пилами; кто-то в возбуждении выстрелил и прострелил фалду сержантского мундира. После этого буянов утихомирили собственные офицеры[319]. Более драматический оборот события приняли в Нью-Йорке, где солдаты упорно срубали «столпы свободы», которые колонисты столь же систематически ставили. В 1767 г. «Сыны Свободы» соорудили на редкость прочную конструкцию, усиленную железными обручами. Англичане попытались срубить, а затем и взорвать «столп», но конструкция выдержала. Американцы выставили вокруг «столпа» стражу, несколько ночей отбивавшую нападения солдат из гарнизона. Затем губернатор постарался утихомирить страсти, приказав гарнизону оставить «столп» в покое. Три года прошло вполне мирно, но 19 января 1770 г. развернулись события, известные как «битва на Голден-хилл». За несколько дней до этого солдаты вновь предприняли несколько попыток уничтожить «столп свободы». На третью ночь им это удалось: «столп» был спилен у основания и распилен на части. Обломки были разбросаны перед таверной Монтаньи на Бродвее, где любили собираться «Сыны Свободы». В ответ на оскорбление 3 тысячи ньюйоркцев собрались на общинном лугу и приняли резкие резолюции против гарнизона. Наконец, 19 января нью-йоркский радикал Айзек Сиэрс и «Сыны Свободы» попытались помешать солдатам расклеивать лоялистские листовки. Они взяли в плен нескольких солдат; остальные англичане пытались укрыться в казармах. По пути их окружила толпа; это было на Голден-хилл. Офицер приказал солдатам примкнуть штыки и прорубиться сквозь толпу. В последующей потасовке несколько человек было ранено; один из них смертельно[320]. 6 февраля на старом месте был торжественно водружен новый «столп свободы». Он представлял собой корабельную мачту в 12 футов высоты, был на две трети усилен железными обручами. Позолоченная табличка на верхушке гласила: «Свобода и собственность»[321].
Четвертая постоянная тема – оскорбительные для мирных жителей или прямо противоправные действия военных. Так, «Boston Evening Post» писала, что солдаты попросту грабят на больших дорогах[322]. Довольно типичной была такая публикация: в Бостоне солдат пытался поухаживать за молодой женщиной, а когда она скрылась в доме, хотел взломать дверь. В среду он явился снова, называл даму своим «сладостным ангелом» и просил спуститься и открыть ему дверь. Муж дамы пытался урезонить ухажера, но тот заявил: «Мне все равно, чья она жена, побожусь, я получу ее вопреки всем мужчинам этой страны». Солдат также угрожал «вышибить мозги» супругу своей пассии. Слово за слово, муж схватился за пистолет и не выстрелил, только уступив мольбам своей жены; на следующий день он обратился к магистрату. Незадачливый ухажер был приговорен к штрафу в 200 фунтов[323]. В другом номере газета подытоживала: «Все оскорбления и провокации, которые жители нашего города ежедневно терпят от солдат, не могут быть опубликованы»[324]. Здесь стоит упомянуть и об аболиционистских высказываниях, действительно произнесенных английскими военными или только приписанных им. На тот момент рабство в Массачусетсе все еще было в порядке вещей (его отменит верховный суд штата при решении трех взаимосвязанных дел в 17811783 гг.). Пока же перспектива рабских восстаний заставляла вздрагивать не только южных плантаторов, но и жителей Новой Англии. «Boston Evening Post» шокировала читателей историей о том, как солдаты подстрекали рабов-негров перерезать глотки хозяевам, бить, оскорблять своих господ, «к великому ужасу» респектабельных белых бостонцев. Солдаты уверяли, что пришли, «чтобы сделать негров свободными, а “Сынов Свободы” – рабами». Газета нравоучительно замечала: «Американцы, вы можете здесь видеть кое-какие первые плоды, произрастающие на том горьком корне[325] – постоянной армии»[326].
К 1770 г. – еще до трагических событий марта – дело дошло до вооруженных столкновений между властями и бостонскими гражданами. В феврале 1770 г. толпа собралась у дома Томаса Лилли, «импортера»[327]. При этом присутствовал некий Эбенезер Ричардсон, платный осведомитель таможни. Ричардсон пытался защитить дом Лилли и при этом выстрелил в толпу, убив 11-летнего мальчика. Возмущенные виги поместили останки жертвы под «древом свободы», откуда началась похоронная процессия. Требовали смертной казни для убийцы. На могиле предполагалось воздвигнуть памятник для увековечения памяти несчастного[328]. Но вскоре эту сенсацию затмила куда более громкая – «бостонская резня».
Газеты публиковали самые неутешительные размышления о британской военной машине. В «Boston Gazette» было перепечатано описание турецких янычар, заимствованное у английского путешественника и, скорее всего, фэнтезийное: «Когда появляется султан, воцаряется глубокое молчание. Янычары стоят вдоль улицы от дворца до мечети. У них нет никакого оружия. Они стоят, скрестив руки, и кланяются лишь султану и визирам, а те отвечают на приветствия. Я спросил командира янычар, почему у них нет оружия. “Оружие! – ответил он. – О неверный, оружие у нас для наших врагов, а нашими подданными мы правим с помощью закона”»[329]. Намек был совершенно прозрачен. Турция, хрестоматийный пример деспотизма, противопоставлялась в положительном смысле Великобритании, образцу конституционализма.
В истории американской журналистики весь этот поток сообщений получил наименование «историй о жестокости» (atrocity stories), и их достоверность ставится под сомнение. Однако следует уточнить, что не все сюжеты из «Дневника времен» касаются именно жестокости; в соответствии с тогдашними бостонскими нравами, солдат могли порицать, например, за игру в мяч в воскресенье. С вопросом о достоверности сведений тоже не все так просто. Некоторые истории, вполне вероятно, и в самом деле выдуманы С. Адамсом и его соавторами. На это намекает безымянность их героев или «говорящие», условные имена, как в рассказе о насильственной вербовке в Норфолке. Но в других случаях солдат и их жертв называют по имени, а сюжет получает реальное развитие. Так, офицера, призвавшего рабов к сопротивлению, пытались впоследствии привлечь к суду.
Многие страхи и обвинения, связанные с гарнизоном, имели реальные основания. Без сомнения, нарушения дисциплины и прочее девиантное поведение случались в английской армии не реже, чем в любой другой. Реальной была практика насильственной вербовки. И конечно же, военные не собирались считаться с местными культурными особенностями и уважать «бунтовские» символы вроде «столпов свободы».
Но даже если бы армия вела себя безукоризненно добропорядочно и толерантно, ее восприятие в колониях вряд ли было бы позитивным. Бесчинства солдат – подлинные или только приписываемые им – лишь подтверждали общее представление о сущности наемных армий и их роли в социуме.
Прежде всего, виги с полным на то основанием опасались, что войска посланы в Америку именно против них. «Boston Evening Post» меланхолически отмечала: «Пушечное ядро несет с собой весомые и неопровержимые аргументы; и укол штыком в бок убеждает мгновенно»[330]. Нью-йоркские виги заметно нервничали при мысли о возможных действиях гарнизона в их собственном городе. Перепечатка из «New York Journal» отражала недоумение и шок колонистов: «Мы видим, как оружие Великобритании, так недавно повергавшее в ужас ее врагов, теперь готово к применению против ее бедных беззащитных колоний»[331]. Противопоставление былой славы британской армии, победоносно сражавшейся во время Семилетней войны, и ее новой роли «усмирителей» было очень характерно.
Однако С. Адамс не останавливался на этой простой мысли. Он прибегал к более глубокому теоретическому осмыслению сущности профессиональных армий. В отличие от Свифта, Адамс обращался не к истории возникновения данного института. Его скорее беспокоил правовой статус военных. В британской армии XVIII в. действовала собственная судебная система, от полковых судов до генерального военного суда. Практика наказаний была жестокой[332], но Адамса волновало другое. Он считал, что само по себе наличие отдельного правосудия для армии провоцировало корпоративный дух и могло привести к узурпации военными контроля над гражданской властью. Здесь прочитывались реминисценции из римской истории, легко возникавшие в памяти людей XVIII в. Адамс рассуждал: «Солдатами на деле правят не законы их страны, но закон, созданный исключительно для них. Это может со временем навести их на мысль о том, что они – отдельная организация, отличная от остального народа. А поскольку у них и только у них в руках меч, они могут рано или поздно счесть себя господами, а не слугами народа»[333]. Соответственно, он поднял тревогу еще до возникновения проблем с гарнизоном в Бостоне и в дальнейшем не оставлял избранной темы. Облюбованную им тактику раскрывал один из его псевдонимов: Principiis Obsta – «В самом начале [болезнь] пресеки»[334].
На протяжении более двух лет, с 1768 по 1770 гг. Адамс вел постоянную антиармейскую пропаганду под изысканными латинскими девизами – «Principiis Obsta» в «Boston Gazette» и «Cedant arma togae»[335] в «Boston Post». Затем он начал серии «Кандид» в «Boston Post», «Vindex»[336] в «Boston Gazette». В это же время под десятком псевдонимов выходили его статьи в «Boston News-Letter»[337]. Он объявлял расквартирование войск в Бостоне беспрецедентным нарушением английских законов и предсказывал установление в Массачусетсе военного правления и тирании. Говоря об этом, Адамс не уставал напоминать о принципах народного суверенитета: постоянные армии «всегда опасны для гражданской свободы, и народ имеет неотъемлемое право судить об их необходимости»[338]. В сочетании с «Дневником времен», проанализированным выше, теоретические выкладки Адамса производили сильное впечатление на современников.
«Как англичане, они (бостонцы. – М.Ф.) питают отвращение к ненужным постоянным армиям, которые рассматривают как опасные для своей гражданской свободы», – констатировала «Boston Gazette»[339]. В резолюции палаты представителей Массачусетса говорилось о том, что постоянная армия в мирное время – «опасное новшество»[340]. Солдаты подверглись полному бойкоту. На каком-то этапе о Джоне Хэнкоке пошли слухи, что он якобы предлагал снабжать английский гарнизон в Нью-Йорке. Он вынужден был через газету опровергать инсинуации[341]. Таким образом, снабжение английского гарнизона само по себе могло считаться пятном на репутации патриота.
Все это однозначно демонстрировало низкий рейтинг армии в Бостоне. Попытки военных хоть как-то улучшить свой имидж неизменно проваливались. Гарнизон использовал традиционные средства создания позитивной репрезентации армии: парады, военную музыку, офицерские балы. Но в данных условиях все это не срабатывало. Флейта и барабан вызывали у бостонцев лишь раздражение. На военные маневры колонисты смотрели без всякого восхищения. Примером такого неудачного пиара может служить эпизод, произошедший 25 октября 1768 г. Праздновался день интронизации Георга III. По этому случаю были устроены военные маневры на общинном лугу. Но впечатление, произведенное на бостонцев, было далеко от запланированного. Автор статьи в «Boston Gazette» рефлексировал: «Сверкание штыков и багинетов, враждебный вид войск во время глубокого мира навели на большинство зрителей глубокую серьезность», И он вспоминал уже упоминавшуюся историю о безоружных янычарах, опубликованную в бостонских газетах[342].
И вот, наконец, 5 марта 1770 г. произошло реальное и довольно серьезное столкновение бостонцев и солдат, известное под названием «бостонской резни». Раздраженные насмешками горожан, солдаты открыли огонь. Четверо мирных жителей было убито на месте, восемь ранено. Один из раненых скончался через несколько дней[343]. На следующий же день после столкновения С. Адамс произнес пламенную речь в Фанейл-холле, требуя немедленного вывода войск из города. Пол Ривир проявил чудеса оперативности, создавая гравюры с изображением происшедшего[344]. Событиям 5 марта был посвящен специальный выпуск «Boston Gazette». В траурной рамке газета сообщала об «ужасной резне». Были описаны краткие биографии убитых и характер смертельных ранений. В передовой статье Адамс представлял случившееся как результат провокации со стороны солдат, коловших горожан штыками и затем, в ответ на несколько снежков, брошенных мальчишками, открывших огонь. Капитан Престон, командовавший отрядом, будто бы воскликнул: «К черту, стреляйте, каковы бы ни были последствия!» Далее следовало еще множество деталей того же рода, в том числе сообщение, что солдаты стреляли в людей, пытавшихся помочь раненым. «Степень жестокости, неведомая британским войскам, по меньшей мере с тех пор как дом Ганноверов контролирует их действия, – попытка стрелять или колоть штыками людей, которые пытались унести убитых и раненых!» – восклицал автор. И далее следовало традиционное впечатляющее клише: «Кровь наших сограждан текла по улицам, как вода». Лаконичная, но тем более выразительная ксилография изображала четыре гроба с инициалами жертв, черепом и скрещенными костями[345]. На фоне скупого, монотонного оформления колониальной прессы траурная рамка и изображения гробов в «Boston Gazette» должны были особенно поражать читателя.
8 марта жертв «резни» хоронил весь город. По случаю похоронной процессии были закрыты магазины; все колокола города издавали торжественный звон. Длинная вереница карет, принадлежавших городским джентри, тянулась за гробами; многочисленные бостонцы попроще шли пешком, переполняя улицы[346].
В дальнейшем информация о событии распространялась в газетных публикациях, газетах и листовках по всем колониям. Гравюра Пола Ривира висела в фермерских домах по всей Новой Англии[347]. Преподобный Джон Лэтроп, пастор Второй церкви Бостона, произнес проповедь на стих из Книги Бытие «И сказал (Господь): что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4:10). Проповедник желал скорейшего падения правительства, основанного не на законе, а на силе меча. Тему подхватили другие священники[348]. В любом случае, «бостонская резня» вписалась в общий поток «Дневника времен», продолжая уже привычную тему.



