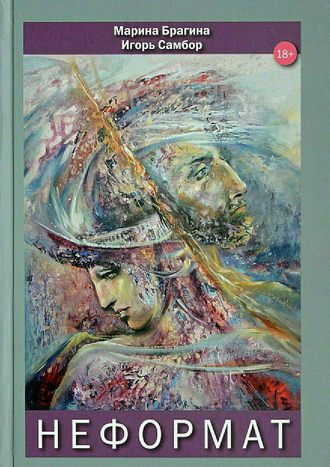
Марина Владимировна Брагина
Неформат
потому, что текст там был на двух языках – русском и украинском, что, как и всякая бессмыслица, оскорбляло его стремление к простоте и логике. На кой чёрт изгаляться в документах – писать их
на языке, который не существует, по крайней мере в Изотовке? И не более живом, чем латынь?
Но в тот вечер, когда он (Это ведь было? Это должно было быть?) забирал паспорт в
каморке паспортного стола без окон, с глухой дверью, обшитой выкрашенным ядовито-зелёной
краской листовым железом, ему было решительно всё равно. Он сам себе казался (теперь, многие
годы спустя, слово найдено) бесплотным, бестелесным трёхмерным образом, голограммой,
нарисовавшейся в пространстве комнатушки, и ему было смешно, как этого не понимает
тщедушный, с залысинами армянин-участковый, который донимал Савченко вопросами: как
получилось так, что по-украински слово «фамилия» – это, видите ли, «призвыще», а отчество –
вообще какое-то несуразное «по-батькови». В другое время Савченко, превозмогая раздражение,
вступил бы в интеллектуальный спарринг с армянином, но в тот день он был так оглушён
произошедшим, что отвечал бесцветно, терпеливо и безучастно, как отвечают слабоумному
ребёнку опустошённые трагедией родители. И армянин, так и не удовлетворив в полной мере
своего мальчишеского любопытства, наконец отстал и с досадой отдал ему паспорт.
Савченко только запомнил, что всё куда-то ходил по базе: из столовой к себе в жилой
корпус, оттуда зачем-то в актовый зал, от кастелянши из хозблока – в переговорный пункт, где был
один на всю турбазу междугородний телефон; он ходил и ходил без остановки, неприкаянный,
как Агасфер, но только, в отличие от библейского персонажа, пьяный и шальной от счастья. Его
воспалённое воображение снова и снова бросало его туда, в комнату, залитую белым
медицинским светом от сугробов за окном. Ему казалось, что всё его тело горит, и он
расширенными глазами всматривался в это наркотическое видение: её грудь, её стройные бедра
и искажённое страстью лицо.
Такое похожее на помешательство наркотическое смешение реальности с бредом он
испытал раньше один раз в раннем детстве, когда при проверке у глазного врача ему закапали
атропин и он потерял контроль над собой и реальностью.
А в тот остаток дня он запомнил только один момент скоротечного протрезвления: когда
она, оторвавшись от своей вездесущей подружки, подошла к нему после ужина в столовой и, не
обращая ни на кого внимания и не заботясь о том, что подумают окружающие, повела его,
покорного, как телёнок, в угол кафе. Она внимательно смотрела ему в лицо своими пушистыми
глазами, и он сразу протрезвел – атропин перестал мутить его мозг и чувства.
– Егерь, обещай, что ты не пропадёшь в Москве в своём сумасшедшем МАИ, – сказала она
тихо. – Обещаешь?
Он, слава богу, снова мог смотреть ей в лицо без стыда и стеснения. И это было радостно и
странно. Он кивнул, каким-то образом понимая, что сейчас лучше безмолвствовать.
– Знаешь, на Западе… то есть за границей, – поправилась она, – принято посылать
благодарственные письма на дорогой писчей бумаге после встречи или пребывания в гостях. Я не
раз в английской литературе натыкалась на эти подробности. У нас почему-то эта традиция не
прижилась, а жаль. Зато у нас открытки-поздравления с Новым годом. Хочу тебя поблагодарить за
всё: и за то, что вытащил меня из снега, и за наши разговоры под чай и творог с кефиром. И,
главное, за всё, что было сегодня, – сказала она, – смело глядя ему прямо в глаза. Она протянула
ему новогоднюю почтовую открытку, где Дед Мороз с развевающейся бородой и Снегурочка в
кокошнике мчались в санной тройке, под дугой, на которой вместо колокольчиков причудливо
извивались цифры 1 9 7 2.
– До встречи в Москве, – тихо и убеждённо сказала она. – Ты там когда будешь?
– Дней через шесть, – в тон ей ответил он, как будто он и впрямь постоянно жил в Москве
и столичный город по праву принадлежал ему.
– Сама понимаешь, в Изотовку заехать надо, – сказал он с уверенной интонацией
молодого барина, которому по дороге в столицу нужно по делам заглянуть в какую-то богом
забытую Кистенёвку.
– До встречи в Москве, – повторила она, как одному из своих, как будто почувствовав этот
его подтекст и мысленно вычеркнув из мира всё прочее, и прежде всего Изотовку. – Я буду ждать.
Она стремительно и легко, одним летящим прикосновением поцеловала его в губы,
словно ласточка прикоснулась крылом, и стремительно пошла к выходу из столовой, где Лилька в
ожидании её с шумом и прибаутками прощалась с очередным братцем-месяцем.
Савченко неотрывно следил за ярко-красной фигуркой, пока она не скрылась в проёме
двери, и машинально посмотрел вниз, на новогоднюю открытку в руке. На обороте, перекрывая
собой всё пустое пространство наискось и обрываясь рядом с пропечатанной маркой «Почта СССР.
4 коп.» красивым крупным почерком отличницы было написано: «До встречи в Москве» и
семизначный номер её телефона.
Глава 4
«Москва видала всякое…»
Снова и снова листая страницы памяти, он всякий раз до физического озноба в теле
вспоминал, как жутко мёрз в ту зиму; когда-то раньше, ещё в изотовской школе, он обратил
внимание на вещую фразу из сибирских, кажется, воспоминаний мрачного и нелюбимого им
Достоевского: «Я промерзал до самого сердца». Фраза эта – цитата из убогого школьного
учебника по литературе, что ли, стала для Савченко рабочим девизом на весь остаток той
студёной зимы. Почему? Чёрт его знает?! Сентенция эта ему вовсе не нравилась, да и не шла к его
психотипу. Было в этой фразе что-то извращённое, как и всегда у Достоевского – теперь бы
сказали «пафосное»; разило от этой фразы какой-то пьяной, слезливой и сопливой русской
трактирной исповедальностью, каким-то бесстыдством души.
Но это «промерзал до сердца» маячило над ним, как вывеска над магазином, с того дня
зимой семьдесят второго, как он заехал с Кавказа к родителям в Изотовку. Поезд безнадёжно
опоздал, потому что уже под Ростовом разыгралась жуткая метель и впереди пошли
снегоочистители. А после метели ударил сильный, для Изотовки нетипичный мороз, и Савченко
замёрз, как барбос в неотапливаемом трамвае, который тащился от шахты «Кочегарка» до
Пушкинской. Задним числом ему казалось, что он так и не отогрелся после этой стужи на улице и в
трамвае – в их хрущёвке были отвратительные батареи, и тепла хватало на полкомнаты. И этот
стылый неуют подхлёстывал его мысленно все дни пребывания в Изотовке и неудержимо гнал его
в Москву. К ней…
Он позвонил ей после возвращения в первый же день из насквозь промёрзшей, покрытой
бахромой ледяных узоров телефонной будки возле метро «Динамо» – средней в ряду из трёх,
предварительно заскочив по очереди в обе крайние. В той, что справа, трубка нестерпимо разила
дешёвым одеколоном – то ли «Цветочным», то ли «Шипром», как будто кто-то нарочно вылил на
неё целый флакон, так что у Савченко от этого резкого коктейля из одеколона и морозного
воздуха перехватило дыхание, он поневоле вспомнил парикмахерскую «Чародейка» на
Шахтёрском проспекте в Изотовке, куда его водили стричься в детстве. Он переметнулся в будку
на другом краю, по привычке стремясь к тому, чтобы его не подслушивали с обеих сторон, но там
зуммер в трубке звучал прерывисто и как-то слабо, будто пульс умирающего, а проклятый диск
выгнут так, что застревал на возврате, и его приходилось пальцем тащить обратно при наборе
каждой цифры. Номер, кажется, всё-таки набрался, несмотря ни на что: он явственно услышал её
голос на другом конце линии, но связь тут же прервалась. Монета-двушка была потеряна, и он,
решив не рисковать, переместился в среднюю будку, где ему наконец улыбнулась удача. Слава
богу, что это снова она: «Добрый день, я вас слушаю». Он мимолётно отметил необычную манеру
её телефонного приветствия – в Изотовке, да и в Москве, он по преимуществу натыкался на какое-
то грубое «аллё» или не менее категоричное «да!», похожее больше на грубый окрик, чем на
приветствие. Ему, конечно, было невдомёк, что автором этого нездешнего телефонного этикета
являлся Лялин отец со свойственным ему армянским политесом.
Жора уделял непропорционально большое внимание мелочам, справедливо полагая, что
из них и состоит жизнь – по крайней мере, жизнь удачливого, состоявшегося человека. Ляле было
лет семь или восемь, когда он категорически настоял, чтобы на все телефонные звонки в квартире
отвечала Ляля, полушутя-полувсерьёз отмахиваясь от недоумённых возражений жены.
– С твоей серьёзной работой – как можно доверять это ребёнку?! Она же маленькая! А
вдруг Громыко позвонит? И что она будет говорить в трубку?
Жора, усадив Лялю в кресло рядом с телефоном, решительно отмёл все возражения жены:
– Ребёнок не маленький. У нас в Армении дети в семь лет бурёнку на выгон с хворостиной
гоняли за несколько километров – и ничего. Что дочка будет говорить и, самое главное, как? В
этом и суть вопроса. Сейчас я ей устрою тренинг на тему: «Как очаровать человека на другом
конце провода». Моя дочь – мой козырь в общении и с подчинёнными, и с начальством. Меньше
хамить будут. Произойдёт смягчение нравов, так сказать. У нас и так грубости в народе перебор, как и в министерстве, впрочем. Как печально констатирует старая революционная песня, «вышли
мы все из народа…» И это, увы, чувствуется на каждом шагу, – не смог удержаться от ехидного
комментария Жора.
Он и впрямь написал на листах, вырванных из мидовского блокнота, несколько сценариев
возможного телефонного разговора и, вручив Ляле трубку от её старого игрушечного телефона,
несколько раз сыграл с ней ролевую игру, притворяясь то своим коллегой по МИДу, то
родственником из Армении, то телефонисткой с междугороднего коммутатора, то просто
абонентом, набравшим номер по ошибке. Он гонял её по разным вариантам импровизации около
часу, следя за тем, чтобы Лялин голос не срывался на детский писк, и настаивая на том, чтобы она
говорила уверенно, со взрослыми интонациями, но неизменно вежливо.
– Ляля, это вы? – От неожиданности её приветствия он тоже перешёл на более
официальный тон.
– Да, это я. – Ответ пришёл после секундного колебания, от которого у него ёкнуло сердце.
Ему почудилось, что дальше внезапно, как удар хлыстом, последует вежливый от ворот поворот.
Но она, слава богу, тут же перешла на ты и спросила ласковым голосом, не оставляющим никаких
сомнений:
– Ты в Москве? – И дальше без колебаний, как старому знакомому: – Давай встретимся?
«Встретимся»!!! В душе у него всё запело, и, не слыша своего голоса, он сказал, телеграфно
отделяя слова, отчего они приобретали особую таинственность:
– Давай. Обязательно. А где? И когда?
– Ну конечно, не в твоём общежитии… – Он услышал, как она усмехнулась в трубку. –
Может, у меня дома? Дай я подумаю над деталями…
При этой фразе у него выступила под шапкой на лбу испарина. Эти «детали» могли значить
многое – собственно говоря, всё.
– Позвони мне завтра сюда, и именно в такое время – не раньше четырёх и не позже семи.
Я как раз одна в это время. Занимаюсь, английский учу, – добавила она зачем-то целомудренно. –
Кстати, у меня книга тут одна появилась. Тебе может понравиться. Правда, она на английском. Из
той самой параллельной математики, о которой ты мне в первый день толковал. Где дважды два
– совсем не обязательно четыре. – Она снова явственно усмехнулась в трубку. – Но это не страшно
– я могу тебе перевести самые интересные куски. Так что, когда приедешь, почитаем. – Она снова
издала какой-то заговорщицки дружеский звук в трубку. – А теперь, молодое математическое
дарование, проверим вашу память на цепкость. Адрес запомнишь, егерь, или нужно записать? Ты
вообще откуда звонишь-то?
Чем дольше длился разговор, тем более свойским становился её голос, и именно поэтому
Савченко устыдился сказать правду.
Чёрт бы подрал этот вечный сюжет – принц и нищий! Этот доверчивый, приятельский
голос в трубке… Нет, признаваться в том, что он звонит из промёрзшей будки городского
автомата, казалось сейчас немыслимым!
– Да знаешь, с кафедры, – без усилий соврал он, – но записывать тут на виду у всех не с
руки. Придётся положиться на математическую память. Диктуй – запоминаю.
Она толково и лаконично, как учил её отец, выдала ему все полагающиеся инструкции – до
какой станции метро ехать, из какого вагона выходить, по какой стороне тротуара и куда идти. Он
поймал себя на мысли, что с удовольствием запоминает всю цепочку объяснений, будто ему
диктовали какое-то стройное в своей абстрактной красоте уравнение.
– Только знаешь что, – напоследок сказала она, становясь серьёзной, – обязательно
позвони мне из автомата в метро, перед тем как выехать. Ладно? Без звонка не приезжай, – ещё
раз, совсем уже серьёзно сказала она, и он понял, что планируется какая-то многоходовка.
Наверное, чтобы он не встречался с её родителями.
Это меняло всё – эта надежда и её тёплый, свойский голос в трубке. В тот вечер он с
энтузиазмом бросился через свежие московские сугробы в школу, где мыл по ночам полы в
спортзале за семьдесят рублей в месяц; в этот раз он даже не содрогался от стужи и усталости, как
это бывало прежде, потому что завтра или послезавтра его ждала она… Он лихо махал шваброй,
добросовестно меняя воду в ведре после каждого поперечного прохода по ширине спортзала, с
удовольствием глядя на свежую чистоту крашеных досок с баскетбольной разметкой, а мысли его
деловито носились в завтрашнем дне: он лихорадочно прикидывал, где можно купить цветы и что
уместно принести с собой в подарок.
На следующий день сразу после занятий он поехал на метро с пересадками в гастроном
«Новоарбатский», зная, что там с большей или меньшей вероятностью можно купить какие-то
сладости. Стоя в короткой очереди, скорость движения которой была тем не менее обратно
пропорциональна её длине, в кондитерском отделе в самом углу магазина, он, как нелёгкое
уравнение, решал житейскую задачу под названием «Что купить в качестве гостинца?» –
корректную коробку мармелада в шоколадной глазури или, по контрасту, килограмм развесной
пастилы? Вадим с детских изотовских лет любил пастилу, да и стоила она дешевле – всего 70
копеек килограмм, но ревностная интуиция провинциала горячо твердила ему в ухо, что заявиться
к ней на квартиру с мещанским серым кульком вместо какой-никакой, но все-таки нарядной
коробки – это совсем не по-московски. «Тут тебе не турбаза», – ещё раз твёрдо сказала ему
интуиция почему-то женским голосом, и Вадим сдался. Обернувшись к тётке в мохеровой шапке,
он вежливо улыбнулся и, нарочито акая по-московски, попросил её подержать его место в
очереди, пока он сбегает в кассу. На сдачу он попросил у кассирши десяток двушек, мысленно
поздравив себя с тем, что он стремительно превращается в практичного, всё предвидящего,
оборотистого даже в мелочах москвича.
До встречи оставались два сопряжённых и взаимозависимых действия – звонок ей и
покупка цветов. И то, и другое можно сделать у Киевского вокзала, и Савченко, не ощущая даже
январской стужи, вскочил на подножку троллейбуса, радуясь тому, что не придётся мёрзнуть на
остановке. Уж если ждать после звонка, то лучше на вокзале, в зале ожидания, не трясясь при
этом от холода.
Пока Вадим искал телефон-автомат, он машинально отметил про себя, что никогда раньше
не уезжал с Киевского вокзала, даже в Подмосковье на электричке.
«Странно, что за всю жизнь ни разу отсюда не ездил в Киев, – подумал он. – Да и в Киеве я
бывал всего раз – ездили с родителями в круиз по Днепру».
Вокзал оказался хоть и большим, но бестолково спланированным, и Савченко пришлось
увёртываться от потока пассажиров, которые выходили через машущие двумя створками двери на
платформу под сводчатым куполом. Озираясь в поисках телефона-автомата, он намётанным
глазом отметил присутствие тёток в толстых ватниках и валенках, которые, переминаясь с ноги на
ногу, торговали цветами, укутанными от мороза в мешковину.
Под сводами вокзала стоял неумолчный гул, а телефоны висели в ряд на стене зала
ожидания – на укромность рассчитывать не приходилось. Из метро звонить ещё хуже – те же
децибелы, плюс шум поездов. Савченко набрал номер, и она моментально сняла трубку – звонок
явно ждали. Он снова услышал в трубке давешнее вежливое приветствие, и уже смелее, на правах
давнего приятеля, сказал:
– Здравствуйте, Красная Шапочка. Дровосек прибыл в новый лес, осваивать территорию.
Хотелось бы делать это вместе с вами.
Она ответила ровным, дружелюбным голосом:
– Знаешь, сейчас ещё занимаюсь. Давай так: я тебе перезвоню через полчаса. Или ты мне
позвони.
Он сообразил, что в квартире родители, при которых она не хотела вдаваться в
подробности.
– Я тебе позвоню через полчаса, – ответил он ей вполне понятливо.
– Только обязательно перезвони, чтобы я не ушла, – добавила она со значением.
Он повесил трубку и радостно ринулся к выходу из вокзала, где ещё раньше заприметил
тёток-цветочниц. Те встретили его радостными возгласами. Они без труда вычислили, конечно,
что он идёт на свидание и, дружески подначивая его, не извлекая цветов из-под толстых слоёв
мешковины, стали торговаться: «Цветы как женщина, молодой человек, они любят тепло. Что же
мы их морозить будем? Розы, парниковые красные. Сегодня сама срезала. О цене договоримся –
тогда и покажу. Да и вам их под куртку придётся прятать – а то не довезёте до барышни своей –
помёрзнут!»
Он купил пять свежих красных роз на длинных точёных стеблях-ножках у самой
широкоскулой из тёток («Поскреби русского – обнаружишь татарина», – вспомнился ему
сардонический афоризм). Цветочница с морозными пятнами румянца на белых, вполне
славянских по цвету щеках, пересчитывая мятые рубли и нежно укутывая цветы в обрывок серой
мешковины, сыпала шутками и пыталась с сугубо женским любопытством выудить у Вадима
ненужные ей подробности: как зовут его зазнобушку и красива ли она. «Что ты парня смущаешь,
окаянная!» – осадила её соседка, то ли досадуя на то, что он купил цветы не у неё, то ли ревнуя
говорливую татарку к нему и его молодости. Но его было не смутить – он нежно, будто
новорождённого младенца, принял свёрток из проворных рук татарки, которая, избыточно
прикасаясь руками к его куртке и свитеру под ней, приладила колючий свёрток под тёплой полой, похлопав парня по груди и ловко застегнув молнию куртки. Все эти манипуляции вызвали новый
приступ сарказма у её соседки, которая, картинно сплюнув в сторону, воскликнула с плохо
скрываемой досадой:
– Всего облапала, шалопутная! Его зазнобе ничего не останется! Отступись ты от мальчика,
сказано тебе! Он тебе в сыновья годится!
– Сама знаю, на что он мне годится! – распутно заявила татарка, широко улыбаясь ему, и
добавила со значением: «Желаю, чтобы не зря ты сегодня на букет потратился. Приходи ещё, если
цветы нужны, ну или окромя цветов что ещё… Как говорится, “сорок пять – баба ягодка опять!”»
Чтобы не загубить розы, он вскочил в промёрзший полупустой троллейбус. Подпрыгивая
на сиденье-недомерке и жмурясь от слабых лучей закатного зимнего солнца, безуспешно
боровшихся с крещенским морозом, подняв воротник и отвернув полу куртки, он усиленно дышал
куда-то в направлении подмышки, согревая мешковину и спрятавшиеся под ней цветы. От
остановки пришлось забежать в магазин «Рыба», чтобы снова набрать её номер из автомата.
– Где вы, милый егерь? – спросила она с особыми интонациями в голосе, и Савченко
понял, что Ляля уже одна в квартире. – Вы что там, мёрзнете в лесу? Бегом в мою избушку!
Греться…
И она положила трубку. Он так торопился её увидеть, что не стал дожидаться лифта и
большими шагами, словно лось, поскакал вверх по широкой лестнице, поскальзываясь на
кафельных плитках площадок и придавая ускорение своему бегу, хватаясь за широкие, покатые
поручни перил.
Савченко помедлил перед дверью, глядя в оптику широкого нездешнего цейсовского
дверного глазка, словно пытаясь поймать в нём своё отражение. Он вдруг вспомнил, что забыл
стряхнуть снег с ботинок, и, не отрывая взгляда от глазка, лёгким танцевальным шагом отошёл от
двери к следующему, ведущему наверх, пролёту лестницы, поочередно задирая ноги назад,
аккуратно сбил с ботинок подтаявшие ошлёпки мокрого снега. Освободив цветы из мешковины,
которую он засунул на самое дно портфеля, снова подошёл к двери и нажал податливую кнопку
звонка.
Он почему-то заранее приготовился к полутьме прихожей, и потому неожиданный поток
яркого, праздничного света от люстры за открытой ею дверью сбил его с толку и заставил на
секунду помедлить. Она стояла посреди большой прихожей в необычном домашнем костюме,
состоявшем из узкой юбки до полу из тёплой и мягкой, похожей на плед ткани, которую
дополняла жилетка, надетая на тонкую водолазку. Это была другая, непохожая на стильную
девочку в вишнёвом лыжном костюме Ляля. Она показалась ему женственно-элегантной и даже
гораздо выше ростом, чем запомнилась там, в Чегете.
– Ты стала выше, Красная Шапочка! – воскликнул он, жадно поедая её глазами – чёрные с
отливом волосы, улыбку, стройную фигуру, обтянутую водолазкой, которая виднелась из-под
жилетки… И тут только вспомнил о букете в руке. Розы в ярком свете люстры выглядели по-
нездешнему великолепно, и он мысленно поздравил себя с тем, что не стал жадничать там, на
вокзале.
– Розы! Ты с ума сошёл! – укоризненно воскликнула она. – Дровосек, где ты их раздобыл в
это время года? То есть я хочу сказать, во что это тебе обошлось?
– В дремучем Дорогомиловском лесу, вестимо, – принимая условия игры, ответил он,
имитируя густой мужицкий бас и мимолётно вспомнив разбитную татарку-цветочницу. – А
обошлось в сущие копейки. Пятьсот копеек медными деньгами.
Она оторопела на секунду, переводя в голове копейки в рубли, и шутливо замахнулась на
него букетом.
– Тьфу, Дровосек, опять ты со своей математикой! Не удивлюсь, если ты платил за цветы
деньгами, меряя их не номиналом, а весом. Сколько будут весить пятьсот копеек, ну-ка?
– У меня ещё и сдача осталась – на звонки из автомата. – И он шутливо побренчал в
кармане куртки заветными двушками.
– Слушай, чего мы здесь стоим? – засуетилась она. – Проходи в избушку. Я, как истинная
Красная Шапочка, пирожков тебе припасла. Если быть точной, не пирожков, а ватрушек. И если
быть совсем точной, то не я сама, а моя матушка. У неё первая половина дня свободная. Я же
помню, что ты сладкоежка.
– Готовить, увы, не умею, яичница не в счёт, – Савченко вытащил из портфеля коробку с
мармеладом, – а это – подтверждение твоего тезиса о том, что я сладкоежка.
– Горячий чай из самовара и ватрушки ждут тебя! – Ляля снова взмахнула букетом. –
Снимай куртку, от неё морозом веет. Пошли греться. Проходи в гостиную, я сейчас!
Савченко благодарно кивнул вслед уносящейся в кухню Ляле. Ему не хотелось снимать при
ней ботинки: в этом, как и в демонстрации мужских носков, было что-то необъяснимо постыдное,
но что, он и сам сказать не мог. Ему вдруг вспомнилось, как в Изотовке в шумных праздничных
компаниях не на первой стадии подпития мужчины без ботинок, в одних носках танцевали в
тесной хрущёвской малометражке на бугристых досках крашеного пола, наступая невпопад на
босые ноги своих партнёрш.
Он, конечно, загодя знал, что у неё придётся снимать ботинки в прихожей, и специально
надел толстые шерстяные носки, которые, слава богу, не выглядели так позорно, как обычные. И
всё же хорошо, что она умчалась на кухню… Вадим, как садовый ёж, стремящийся быть
незаметным для потенциальных хищников, потыкался по периметру большой прихожей,
соображая, куда бы поскромнее пристроить свои зимние ботинки, которым по их внешнему виду
был уже не первый год. Нужное место нашлось у стены рядом с входной дверью.
– Ну, где ты там застрял? – услышал он голос Ляли. – А ещё говорил, что любитель чаю.
– Моя тропа к чаю пролегает через кран с тёплой водой. Где можно помыть руки?
– Иди сюда, ванная рядом с кухней! – Она перекликалась с ним, будто они и вправду
очутились в лесу.
Он пошёл на звук её голоса (в этой большой квартире немудрено потеряться, как в чаще).
Чуть не налетел на неё, шедшую с подносом ватрушек в руках по длинному коридору, и вдруг
сообразил, что здесь, в Москве, в уюте своей квартиры и в обычной, а не горнолыжной одежде,
она оказалась ещё красивее, чем там, на турбазе Чегета.
Она вручила ему двумя руками поднос, как будто подносила хлеб-соль заморскому гостю,
и, шутливо развернув его вокруг собственной оси, подтолкнула в сторону гостиной. Там
действительно стоял самовар, правда электрический, и на его конфорке кокетливо угнездился
заварной фарфоровый чайник из сервиза «Мадонны», что придавало исконно русскому самовару
какой-то европейский флёр. И свет люстры в прихожей, и запах ванили на кухне, и этот самовар в
окружении красивого сервиза и мельхиоровых ложечек – всё это постоянно наводило его на
мысль, что он нежданно-негаданно попал на какой-то праздник, где ему рады и где его ждали.
– Руки мыть в ванной, и сюда со скоростью эха, – шутливо скомандовала Ляля. – Правда,
не чета тебе, я не знаю скорости эха, но подозреваю, что это очень быстро.
Он усмехнулся и, по-прежнему переживая это безотчётное чувство праздника,
действительно едва не вприпрыжку помчался в ванную.
Когда он снова вошёл в гостиную, она уже налила ему крепкий, с оранжевым оттенком чай
в нарядную чашку и красиво, в полукруг, выложила на тарелку перед ним три ватрушки.
– Пробуйте, Дровосек, эта выпечка лучше, чем в сказках Перро – знакомая моей матушки
долго в Румынии в посольстве жила и поделилась специальным рецептом. Это не просто
вульгарная русская ватрушка, а «плачинда ку брынза». Только «брынза» по-румынски – любой
сыр, в том числе и творог, а не та солонятина, которую здесь в магазинах продают. А это вот, по
аналогии, «плачинда ку мере», то бишь ватрушка с яблоками. Ну, а это в Европе называется
выпечка по-датски – с вишнёвым вареньем.
Савченко, по-прежнему ощущая себя заморским гостем у царя Салтана, прервал её
кулинарный экскурс вопросом:
– Дровосеки, будучи из самых низов общества, цепенеют в присутствии Красных Шапочек
с их неземными манерами. Посему неловкий вопрос: вот, например, эту датскую выпечку
полагается резать ножом или уместно откусывать от неё?
– Помню, помню твои экзерсисы с двумя вилками и одной сосиской, – рассмеялась Ляля. –
Не усложняй. Москва – город купеческий. Картину «Чаепитие в Мытищах» помнишь? Где ты там
видел, чтобы ножом орудовали? Ешь так! – И она сама беззаботно махнула в воздухе ватрушкой.
Ватрушки, крепкий чай с лимоном, красивый сервиз – Савченко никак не мог отделаться от
ощущения, что он попал на съёмки какого-то фильма, где ему нежданно-негаданно досталась
роль главного героя. Под ярким светом люстры, как будто под кинопрожектором, он вдруг
почувствовал себя на своём месте. Он даже немного удивился тому, как ему легко и просто с ней, насколько она, несмотря на эти гигантские московские хоромы, в которые уместились бы две
хрущёвские квартиры-«трёшки» с планировкой, саркастически называемой в Изотовке «штаны»,
органично вела себя за столом. Савченко мимолётно вспомнил, как перед приходом сюда, в
мёрзлом троллейбусе беспокоился о том, чтобы не накрошить ненароком на скатерть или не
поперхнуться чаем, и теперь эти опасения вызвали у него усмешку.
– Егерь, ты явно вспомнил что-то смешное. – Ляля смотрела ему в глаза через стол долгим,
проникающим взглядом. – Ну-ка, делись секретом! Как говорят англичане, даю пенс за то, чтобы
узнать, что у тебя на уме!
– Да ничего особенного, просто вспомнил, как продавщица цветов допытывалась, как
выглядит моя девушка.
– А, значит, я уже твоя девушка?
Ляля ещё пронзительнее впилась в него взором поверх чайной чашки.
Он почувствовал, что сморозил бестактность, и по загривку его пробежал холодок
катастрофы.
– Нет-нет, что ты, я ничего подобного не говорил… – забормотал он, и вдруг действительно
чуть не подавился глотком чая, который торопливо отхлебнул, стараясь скрыть неловкость. –
Просто, знаешь, она, эта цветочница, сказала, что такой букет покупают только для очень
неординарной девушки.
– Прям-таки неординарной! – заметила Ляля иронически. – Егерь, ты не научился врать как
следует. По крайней мере, убедительно врать женщине, тем более с филологическим
образованием. Где это видано, чтобы московские цветочницы употребляли слово
«неординарно»?!
Она шутливо прикоснулась к его ладони ватрушкой, и он расслабился, почувствовав, что
сказанная вскользь фраза не задела её. А может, даже наоборот, заинтриговала?
– Знаю я, о чём думают всякие-разные эти цветочницы! Ни о чём хорошем, можешь мне
поверить. Нет существа любопытнее, ревнивее и коварнее женщины. Ты разве этого не знаешь?
Помнишь, как у Александра Сергеевича – а уж он был знаток женщин – метко сказано: «Ум у бабы
догадлив, на всякие хитрости повадлив».
Вадим зачарованно смотрел на неё, и ему по-прежнему казалось, что он на приливе
вдохновения и энергии играет какую-то ключевую сцену в фильме. Он даже машинально взглянул
в угол, где стоял торшер, как будто ожидал увидеть там камеру.
– Ладно, признаюсь, «неординарная» – это, конечно, моя формулировка.
– И это всё, что ты можешь обо мне сказать?! – воскликнула Ляля с иронической обидой. –
«Неординарная» по сравнению с кем?! С цветочницами или с пассажирками метро?
– В точных науках «неординарная» – это комплимент высшего разряда.
– И что именно он означает? Не такая, как все, и только? Тоже мне комплимент!
– Нет, не просто не такая, как все. – Савченко почувствовал – как бишь это называли в
умных телевизионных программах об актёрах? Мхатовское вдохновение? Хотя сам во МХАТе за
все эти годы побывал только раз. Что-то в ней было, что полностью освобождало его от глупой
изотовской застенчивости, и он на новом всплеске энергии снова выдал, как актёр со сцены: –
Неординарная – это ещё и «нетривиальная» – ну, как доказательство теоремы. Которое никому в
голову не пришло, а вместе с тем оно есть, и выглядит очень заманчиво и элегантно. Так, как этого
не ждёшь, не рассчитываешь.
– Да, Дровосек, ваши комплименты – это весьма штучный товар. На любителя. Впрочем, в
Москве или, как говаривали во времена Пушкина, на Москве, всегда найдётся барышня, которой
такая «неординарность» будет по душе. Слушай, давай ещё чаю? И ватрушки ты не все
попробовал. У тебя что, плохой аппетит? Ты сохнешь от неразделённой любви? Кто-то разбил твоё
сердце и лишил тебя здорового волчьего аппетита?
Она, конечно, забавлялась с ним, играла, как кошка с мышью, но он всё равно
почувствовал, что ей важно до конца понять, что и кто у него был раньше. И самое любопытное,


