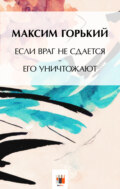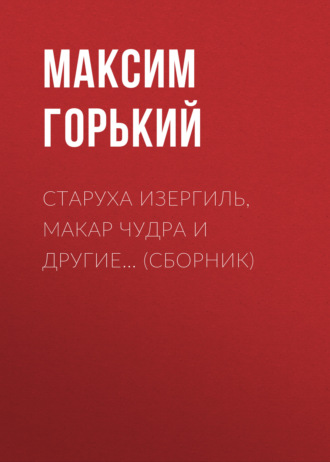
Максим Горький
Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие… (сборник)
– Обижали тебя?
– Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам раза!..
– Я не про побои, а душу – обижали?
– Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, – говорит он. – Души человеческой никак не коснешься, ничем…
Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа – десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно или ласково, поганя душу, – это бьет меня по сердцу.
Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:
– Что, моя милая, что, моя чистая, – настрадалась, намаялась?
И дает душе серафимовы крылья – шесть белых крылий.
Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа, – от отвечает:
– Дух, дыхание божие…
Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:
– О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое…
Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме его, я ничего не вижу, он всё заслоняет от меня своей широкой фигурой.
Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, – утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и – мне противно. А буфетчица всё говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.
Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем, – это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь – я живу далеко от буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я – за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.
– Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, – как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. – Разевай рот, лови счастье…
Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:
– Всего баба покушала – пирожного захотела, безе! Н-народ… Гляди, Пешков, в оба, а зри – в три…
И Яков тоже внушает мне отечески деловито:
– Конешно, ежели бы ты был лета на два старше, ну – я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, – лучше, пожалуй, не сдавайся! А то – как хошь…
– Брось, – говорю я, – пакость это…
Он соглашается:
– Конешно…
Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:
– Ну, тоже и ее дело надо понять, – это дело – скудное, дело зимнее… И собака любит, когда ее гладят, того боле – человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей, поди, самой стыдно, а – что делать? Тело просит холи и – ничего боле…
Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:
– Тебе – жалко ее?
– Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты… чудак!
Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.
Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.
– Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?
– А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто… Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня – земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да – колом его по голове. Кровь пролил. Его за это – в острог на полтора года, а из острога – одна дорога, – опять в острог. А жена его утешная молодуха была… да что говорить! Женился – значит сиди около своей конуры хозяином, а солдат – не хозяин своей жизни.
– Ты богу молишься?
– Ч-чудак! Конешно, молюсь…
– А как?
– Всяко.
– Ты какие молитвы читаешь?
– Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: господи Исусе, живого – помилуй, мертвого – упокой, спаси, господи, от болезни… Ну, еще что-нибудь скажу…
– Что?
– А так! Ему – что ни скажи, всё дойдет!
Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, – он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:
– Ну-кося, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!
Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:
– Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его…
– Не тот, того давно убили!
– За што?
Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:
– Из-за баб очень достаточно пропадает народа…
Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна; Людовик XI – черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV.[117] Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, – он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такою, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.
Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:
Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил:
Да – если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?
Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и Д’Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».
– Хороший человек был Хенрик-король – с ним хошь ершей ловить, хоть что хошь, – говорил он.
Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, – старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:
– Конец?
– Нет еще.
– А ты не останавливайся!
О французах он говорил, вздыхая:
– Прохладно живут…
– Как это?
– А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они – в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют, – утешная жизнь!
– Они и работают.
– Не видать этого по историям-то по твоим, – справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.
– Ну-кось, посплю я немножко, – говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.
Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, – Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне:
– Послезавтрея прибудем мы с тобой, ероха-воха, в Пермь, сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттолева – засядем в трактире с музыкой, – утешно! Люблю я глядеть, как машина играет.
Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина, с дряблым бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея.
Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что, когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет, – и дождь становится сильнее.
Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре, – пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:
– Что ж! Ничего. Это мне – наплевать…
– И хорошо, – тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай.
Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что́ это за человек. Он ответил, усмехаясь:
– Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, дале-еко! Забавный, по планту живет…
Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок.
– Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом – по реке да на лошадях еще, – пять недель будто ехать надо, вона, куда человек забился…
– Ты его знаешь? – спросил я, удивленный неожиданным решением Якова.
– Отколе? И не видывал николи, я в его местах не жил ведь…
Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:
– Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь – скажу? Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это – праздник, человека изуродовать, они за это наградят…
Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз тиснул мою ладонь.
– Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам – что? Ну, прощай! Живи на счастье!
И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое, сложное чувство, – было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошел человек неведомо куда?
И – что же это за человек, Яков Шумов?
XII
Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:
– Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами – учись!
И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с "виноградом", книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце – сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.
Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю – прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом – торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.
– Покупатель – дурак, – уверенно говорил мне приказчик. – Ему всё едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!
Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:
– Мстёрской работы – товар дешевый, три вершка на четыре – себе стоит… шесть вершков на семь – себе стоит… Святых знаешь? Запомни: Вонифатий – от запоя; Варвара Великомученица – от зубной боли, нечаянныя смерти; Василий Блаженный – от лихорадки, горячки… Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене, мати, Утоли моя печали, Казанская, Дейсус, Покрова, Семистрельная…
Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.
Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:
– Трудных родов разрешитель – кто будет?
Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:
– Для чего у тебя голова?
Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такою она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.
В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё – старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно, – становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь:
– Что вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы – пожалуйте, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!
Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:
– Упустил, тор-рговец…
В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:
– Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а – божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены…
– Ч-чёрт! – шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. – Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись!
Я учился добросовестно, – всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле, – эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтырь – книгу, которую они покупали чаше других.
Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:
– Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то – Рогожина, в Москве!
Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа.
– Съел? – ехидно спросил меня приказчик.
– Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина… Он начал ругаться:
– Шляются вот эдакие тихони и всё знают, анафемы, всё понимают, старые псы…
Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:
– Я – умный, я чистоту люблю, хорошие запахи – ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем…
Он огорченно умолкал.
Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове.
Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и стараясь не задевать глазами неосвященных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет:
– Дай-кось Псалтирь толковую!
Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.
– Подревнее – нет?
– Древние – тысячи целковых стоят, как вы знаете…
– Знаем.
Помуслив палец, мужик перевертывает страницу, – там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:
– Священное писание всё одной древности, господь слова своего не изменял…
– Знаем, слыхали! Господь не изменял, да Никон изменил.
И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.
Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.
– Язычники болотные, – ворчал приказчик.
Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга – чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.
Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам; всё это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.
И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.
Приказчик поучал меня:
– Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.
Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.
Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой, тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и всё время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику.
– В чем дела-то выпачканы у вас? – спрашивал старик.
– Вот икона продается, принес человек, говорит – строгановская.
– Чего?
– Строгановская.
– Ага… Плохо слышу, заградил господь ухо мое от мерзости словес никонианских…
Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза, и мурлычет:
– Безбожники никониане, любовь нашу к древнему благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно фальшам разным, ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то – суздальских, ну, а вглядись оком внутренним фальша!
Если он говорит "фальша", значит – икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова "уныние и скорбь" значат – десять рублей, "Никон-тигр" – двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.
– Никониане-то, черные дети Никона-тигра, всё могут сделать, бесом руководимы, – вот и левкас будто настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди, – не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков, хоть он еретик был, – сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне – художество одно, так-то, боговы!
Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит:
– Грехи.
Это значит – покупай!
Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:
– Как же, почтенный, икона-то?
– Икона – никонианской руки.
– Быть того не может! На нее деды, прадеды молились…
– Никон-от пораньше прадеда твоего жил.
Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:
– Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это – картина, слепое художество, никонианская забава, – в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я – человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить – расчета нет!
Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:
– Гляди – икона – строгая, писана тонко, со страхом божиим, человечье – отринуто в ней…
– А чье письмо? – спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.
– Это тебе рано знать.
– А сколько дадут знатоки?
– Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу…
– Ох, Петр Васильич…
– А если продам – тебе полсотни, а что сверх того – мое!
– Ох…
– Да ты не охай…
Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдет, он скажет мне:
– Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!
Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:
– А что новенького в городе, Петр Васильич?
Расправив бороду желтой рукой, обнажив масленые губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов: о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и врсторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:
– Живут люди! А я вот…
– У всякого своя судьба, – гудит басок начетчика. – Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому – бес обухом топора…
Этот крепкий, жилистый старик всё знает – всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему ближе – куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шу-мову.
Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.
– А ведь обманщик ты для людей, – вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.
Старик, лениво усмехаясь, отзывается:
– Один господь без обмана, а мы – в дураках живем; ежели дурака не обмануть – какая от него польза?
Приказчик горячится:
– Не все же мужики – дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!
– Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак свят, в нем мозги спят…
Старик говорит всё более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него – трясина. Рассердить его нельзя, он недосягаем гневу или умеет глубоко прятать его.
Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне, – подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:
– Как ты французского-то сочинителя зовешь – Понос?
Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:
– Понсон де Террайль.
– Где теряет?
– А вы не дурите, вы не маленький.
– Верно, не маленький. Ты чего читаешь?
– Ефрема Сирина.
– А кто лучше пишет: гражданские твои али этот? Я молчу.
– Гражданские-то о чем больше пишут? – не отстает он.
– Обо всем, что в жизни случается.
– Стало быть, о собаках, о лошадях, – это они случаются.
Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно, но, если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит:
– Куда?
А старик пытает меня:
– Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между ними Адам, Ева – как ты найдешь Адам-Еву?
Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет:
– Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит – у них пупков нет!
Старик знает бесчисленное множество таких "задач", он может замучить ими.
Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною, теперь эти рассказы обратились во зло мне: приказчик передавал их Петру Васильеву, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами; их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV.
Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое – чужое, непонятное и смешное им.
Весь Гостиный двор, всё население его, купцы и приказчики жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, – это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали.
Было много подобных развлечений, казалось, что все люди – деревенские в особенности – существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом.
Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.
Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:
– Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!
Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:
– Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.
– Только – чтобы чистого мяса дать, без костей!
Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.
– Батман окорока сожрешь?
– В какое время-с? – тонким голосом деловито спрашивает Мишка.
– В два часа.
– Трудно-с!
– Чего там – трудно!
– Позвольте парочку пива-с!
– Валяй, – говорит хозяин и хвастается: – Вы не думайте, что он натощак, нет, он поутру фунта два калача смял да в полдень обедал, как полагается…
Приносят ветчину, собираются зрители, всё матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.
Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.
Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту, – губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, – и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.
– Начал!
– Глядите на часы!
Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:
– Чисто – медведь мнет!
– А ты видал медведя за едой?
– Али я в лесу живу? Это говорится так – жрет, как медведь.
– Говорится – как свинья.
– Свинья свинью не ест…
Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:
– Свинья всё жрет – и поросят и свою сестру…
Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжко, но его подбородок двигается всё так же равномерно.
– Навались, Михаиле, время! – поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, всё чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:
– Не перевел бы часы-то он назад – возьмите у него! кусков!
За Мишкой следи: не спускал бы в рукава.
– Не сожрет в срок!
Мишкин хозяин задорно кричит:
– Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!
Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.
А Мишка всё жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:
"Помилуйте…"
Или – заглотается мясом по горло, ткнется головою в ноги зрителям и умрет.
Наконец он всё съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:
– Испить дайте…
А его хозяин, глядя на часы, ворчит.
– Опоздал, подлец, на четыре минуты…
Публика дразнит его:
– Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!
– А все-таки зверь-парень!
– Н-да, его бы в цирк…
– Ведь как господь может изуродовать человека, а?
– Айдате чай пить, что ли?