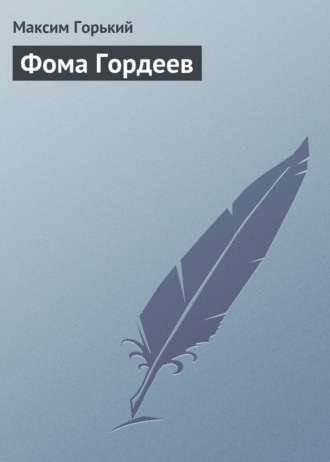
Максим Горький
Фома Гордеев
– Ты что бродишь? – спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: – Гордеев!
Тот взглянул на вошедшего и резким, скрипящим голосом сказал:
– Краснощеков…
Фома сел в угол дивана, объявив Ежову:
– Я ночевать пришел…
– Ну, так что? Говори дальше, Василий…
Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел:
– По-моему, вы напрасно наваливаетесь так на глупых-то людей – Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид – тоже дурак, наверно… однако, кабы он не воткнул в себя имперских пик, – швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков! Однако – они герои… А умники-то – трусы… Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он соображает: «А что отсюда выйдет? а как бы даром не пропасть?» И стоит перед делом, как кол… пока не околеет. Дурак – он храбрый! Прямо лбом в стену – хрясь! Разобьет башку – ну что ж? Телячьи головы недороги… А коли он трещину в стене сделает, – умники ее в ворота расковыряют, пройдут и – честь себе припишут!.. Нет, Николай Матвеич, храбрость дело хорошее и без ума…
– Василий, ты говоришь глупости! – сказал Ежов, протягивая к нему руку.
– А, конечно! – согласился Василий. – Где мне лаптем щи хлебать… А все-таки я не слепой… И вот вижу: ума много, а толку нет.
– Подожди! – сказал Ежов.
– Не могу! У меня сегодня дежурство… Я и то, чай, опоздал… Я завтра зайду, – можно?
– Валяй! Я тебя распатроню!
– Такое ваше дело…
Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснул ее.
– Прощайте!
Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь.
– Видал? – спросил Ежов у Фомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.
– Что за человек?
– Помощник машиниста, Васька Краснощеков… Вот возьми с него пример: пятнадцати лет начал грамоте учиться, а в двадцать восемь прочитал черт его знает сколько хороших книг, да два языка изучил в совершенстве… За границу едет…
– Зачем? – спросил Фома.
– Учиться, посмотреть, как там люди живут… А ты вот – киснешь…
– Насчет дураков дельно он говорил! – задумчиво сказал Фома.
– Не знаю, ибо я – не дурак…
– Дельно! Тупому человеку надо сразу действовать… Навалился, опрокинул…
– Пошла писать губерния! – воскликнул Ежов. – Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?
– Правда… А что?
– Ничего!
– По роже твоей видать, есть что-то…
– Знаем мы этого сына – слышали о нем… На отца похож?
– Круглее… серьезности больше… такой холодный!
– Ну, ты, брат, смотри теперь в оба! А то они тебя огложут… Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтяпал…
– Пусть и меня обтяпает, коли хочет. Я ему за это, кроме спасиба, ни слова не скажу…
– Это ты все о старом? Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен… Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб!
Ежов вскочил на ноги и, встав против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя:
– Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чер-рт ее побери! Я б им сказал: «Букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой…»
Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожий на освирепевшее хищное животное.
– Я сказал бы им: «Вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и – трусы все вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька». Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы… О, уж тогда они страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! А теперь они – не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия…
Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова встал пред Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкие и острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заражался его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, – глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.
– Я знаю меру сил моих, я знаю – мне закричат: «Молчать!» Скажут: «Цыц!» Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут… Я знаю – я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики… Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: «Да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир! А вы, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда есть содержание, понятное вам, – вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу… За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте: разразится буря, и она сметет и смоет вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и, когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!»
– Круши! – взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами он заглядывал в лицо Ежова, наклонясь к нему, и с тоской, с горестью почти застонал: – Э-эх! Николка… Милый, жаль мне тебя до смерти! Так жаль – сказать не могу!
– Что такое? Что ты? – отталкивая его, крикнул Ежов, удивленный и сбитый неожиданным порывом и странными словами Фомы.
– Эх, брат! – говорил Фома, понижая голос, отчего он становился убедительнее и гуще. – Живая ты душа, – за что пропадаешь?
– Кто? Я? Пропадаю? Врешь!
– Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто тебя услышит? Только я вот…
– Пошел ты к черту! – злобно крикнул Ежов, отскакивая от него, как обожженный.
А Фома говорил убедительно и с великой грустью:
– Ты говори! Говори мне! Я вынесу твои слова куда надо… Я их понимаю… И ах, как ожгу людей! Погоди только!.. Придет мне случай!..
– Уйди! – истерически закричал Ежов, прижавшись спиной к стене. Он стоял растерянный, подавленный, обозленный и отмахивался от простертых к нему рук Фомы. А в это время дверь в комнату отворилась, и на пороге стала какая-то вся черная женщина. Лицо у нее было злое, возмущенное, щека завязана платком. Она закинула голову, протянула к Ежову руку и заговорила с шипением и свистом:
– Николай Матвеевич! Извините – это невозможно! Зверский вой, рев!.. Каждый день гости… Полиция ходит… Нет, я больше терпеть не могу! У меня нервы… Извольте завтра очистить квартиру… Вы не в пустыне живете – вокруг вас люди!.. Всем людям нужен покой… У меня – зубы… Завтра же, прошу вас.
Она говорила быстро, большая часть ее слов исчезала в свисте и шипении; выделялись лишь те слова, которые она выкрикивала визгливым, раздраженным голосом. Концы платка торчали на голове у нее, как маленькие рожки, и тряслись от движения ее челюсти, Фома при виде ее взволнованной и смешной фигуры опустился на диван. Ежов стоял и, потирая лоб, с напряжением вслушивался в ее речь…
– Так и знайте! – крикнула она, а за дверью еще раз сказала: – Завтра же! Безобразие…
– Ч-черт! – прошептал Ежов, тупо глядя на дверь.
– Н-да-а! Строго! – удивленно поглядывая на него, сказал Фома.
Ежов, подняв плечи, подошел к столу, налил половину чайного стакана водки, проглотил ее и сел у стола, низко опустив голову. С минуту молчали. Потом Фома робко и негромко сказал:
– Как все это произошло… глазом не успели моргнуть, и – вдруг такая разделка… а?
– Ты! – вскинув голову, заговорил Ежов вполголоса, озлобленно и дико глядя на Фому. – Ты молчи! Ты – черт тебя возьми… Ложись и спи!.. Чудовище… Кошмар… у!
Он погрозил Фоме кулаком. Потом налил еще водки и снова выпил…
Через несколько минут Фома, раздетый, лежал на диване и сквозь полузакрытые глаза следил за Ежовым, неподвижно в изломанной позе сидевшим за столом. Он смотрел в пол, и губы его тихо шевелились… Фома был удивлен – он не понимал, за что рассердился на него Ежов? Не за то же, что ему отказали от квартиры? Ведь он сам кричал…
– О, дьявол!.. – прошептал Ежов и заскрипел зубами.
Фома осторожно поднял голову с подушки. Ежов, глубоко и шумно вздыхая, снова протянул руку к бутылке… Тогда Фома тихонько сказал ему:
– Пойдем лучше куда-нибудь в гостиницу… Еще не поздно…
Ежов посмотрел на него и странно засмеялся, потирая голову руками. Потом встал со стула и кратко сказал Фоме:
– Одевайся!..
И, видя, как медленно и неуклюже Фома заворочался на диване, он нетерпеливо и со злобой закричал:
– Ну, скорее возись!.. Оглобля символическая!
– А ты не ругайся! – миролюбиво улыбаясь, сказал Фома. – Стоит ли сердиться из-за того, что баба расквакалась?
Ежов взглянул на него, плюнул и резко захохотал…
XIII
– Все ли здеся? – спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. – Кажись, все!
И, подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:
– Отваливай, Петруха!
– Есть!..
Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой, черной бороде, крякнул и скомандовал:
– Назад! Тихий!
Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц.
– Благослови-ко, господи! – умиленно воскликнул Кононов.
– Отдай кормовую! Вперед! – командовал капитан.
Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом выпустил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения.
– Эк пошел! – с восхищением сказал коммерции советник Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. – Не дрогнул! Как барыня в пляс!..
– Левиафан! – благочестиво вздыхая, молвил рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик.
День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной, торжествующей улыбкой.
– Господа почтенная компания! – сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. – Как теперь мы, так сказать, воздали богу – богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю – кесарево!
И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул:
– Музыка! «Славься» играй!
Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.
А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном животе:
– Славься, сла-авься, наш русский царь – тра-ра-та! Бум!
– Прошу, господа, за стол! Пожалуйте! Чем бог послал… Покорнейше прошу… – приглашал Кононов, толкаясь в тесной группе гостей.
Их было человек тридцать, всё солидные люди, цвет местного купечества. Те, которые были постарше, – лысые и седые, – оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно, уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, – не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода – все это раздражало его.
Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрашивал его идти к Кононову на молебен и обед?
Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке и всю службу наблюдал за купцами.
Они стояли в благоговейном молчании; лица их были благочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них.
Вот Луп Резников, – он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка… Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился… Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним – второй уже раз, по такому же обвинению – привлечен к делу и Захар Кириллов Робустов – толстый, низенький купец с круглым лицом и веселыми голубыми глазами… Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.
Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом, торговом деле, все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки… Но теперь, собравшись вокруг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые и окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, – чем-то таким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость пред ними.
«Обманщики…» – думал он, ободряя себя.
А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие, черные камни.
«Притворяются!» – восклицал про себя Фома. А стоявший обок с ним горбатый и кривой Павлин Гущин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:
– «Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене…»
И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость его.
– «Господи боже отец наших, заповедавый Ною, рабу твоему, устроити кивот ко спасению мира…» – густым басовым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: – «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна… хотящие плыти на нем сохрани…»
Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло груди свои знамением креста, и на всех лицах выражалось одно чувство – вера в силу молитвы…
Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость бога, были так жестки к человеку.
Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову:
– Иона Никифорыч! Гляди – кит! Вполне для твоей особы футляром может быть… а? Как нога в сапог, влезешь, а? Хе-хе!
Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки пред собой, боясь опрокинуть их.
Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паштет, сделанный в виде башни.
– Господа! Прошу! Кто чего желает! – кричал Кононов. – У меня все сразу пущено, – что кому по душе… Русское наше, родное – и чужое, иностранное… все сразу! Этак-то лучше… Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих – а? Из Индии, говорят…
А Зубов говорил своему соседу, Маякину:
– Молитва «Во еже устроити корабль» к буксирному и речному пароходу неподходяща, то есть не то – неподходяща, – а одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного жительства команды, должен быть приравнен к дому… Стало быть, потребно, окромя молитвы «Во еже устроити корабль», – читать еще молитву на основание дома… Ты чего выпьешь, однако?
– Я человек не винный, налей мне водочки тминной!.. – ответил Яков Тарасович.
Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляды старика.
«Боится, что наскандалю…» – думал Фома.
– Братцы! – хрипел безобразно толстый пароходчик Ящуров. – Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начинаю… у меня такая природа!
– Музыка! Вали «Персидский марш»…
– Стой! Лучше – «Коль славен…»
– Дуй «Коль славен…»
Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов в большой – все это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских голосов и неслось за пароходом, как ураган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздраженное и презрительное…
– А что ты вексель отказался мне учесть – этого я по гроб не забуду! – кричал кто-то неистовым голосом.
– Бу-удет! разве здесь счетам место? – раздавался бас Боброва.
– Братцы! Надо речи говорить!
– Музыка – цыц!
– Ты приди ко мне в банк, я тебе и объясню, почему не учел…
– Речь! Тише…
– Му-узыка, переста-ать!
– «Во лузях»!..
– «Мадам Ангу»!..
– Не надо! Яков Тарасыч – просим!
– Это называется – страсбургский пирог…
– Просим! Просим!
– Пирог? Н-не похоже… ну, все-таки я поем!..
– Тарасыч! Действуй…
– Братцы мои! Весело! Ей-богу…
– А в «Прекрасной Елене» она, голубчик, выходила совсем почти голенькая… – вдруг прорвался сквозь шум тонкий и умиленный голос Робустова.
– Погоди! Иаков Исава – надул? Ага!
– Тарасыч! Не ломайся!
– Тише! Господа! Яков Тарасович скажет слово!
И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то громкий, негодующий шепот:
– Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет…
А Бобров спросил громким басом:
– З-за к…какое место?
Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривал купечество ожидающим внимания, серьезным взглядом.
– Ну, братцы, разевай уши! – с удовольствием крикнул Кононов.
– Господа купечество! – заговорил Маякин, усмехаясь. – Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души…
– Смирно!..
– Милостивые государи! – повысив голос, говорил Маякин. – В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми… Что же это такое – культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова – что оно в себе заключает?
Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествующе усмехнувшись, раздельно продолжал:
– Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. «Так! – подумал я, – так! Значит – культурный человек тот будет, который любит дело и порядок… который вообще – жизнь любит – устраивать, жить любит, цену себе и жизнь знает… Хорошо!» – Яков Тарасович вздрогнул; морщины разошлись по лицу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звезду.
Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.
– Но коли так, – а именно так надо толковать это слово, – коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы – дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, – мы же действие… И вот, господа купечество, пример нашей культуры, – любви к делу, – Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас… Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят… Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходищи, баржи – чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все – наше, тут все – плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали – вывели разбои и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше… Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит – тот говорит… – он смачно выговорил похабное слово, – и больше ничего! Пускай! Дует ветер – шумит ветла, перестал – молчит ветла… И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы – бесполезное дерево! От бесполезности и шум… Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно… А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут сделать, – вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал – за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество… Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!
Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из грудей такой дружный, массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось.
– Яков! Труба ты божия! – кричал Зубов, протягивая свой бокал Маякину.
Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.
– А? Что это сказано? – спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его. – Ты – пойми! Великая сказана речь!
– Яков! Дай – облобызаю!
– Качать Маякина!
– Музыка, играй…
– Туш! Марш… Персидский!..
– Не надо музыку! К черту!
– Тут вот она, музыка! Эх, Маякин!
– Мал бех во братии моей… но ума имамы…
– Врешь, Трофим!
– Яков! Умрешь ты скоро – жаль! Так жаль… нельзя сказать!
– Ну, какие же это будут похороны!
– Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу!
– Молчать! Погодите!
– Господа! – весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. – И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящие хозяева в своем отечестве, что мы – мужики!
– Вер-рно!
– Так! М-мать честная! Ну, старик!
– Дай сказать…
– Мы – коренные русские люди, и все, что от нас, – коренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее – самое полезное и обязательное…
– Как дважды два!
– Просто!
– Мудр, яко змий!
– И кроток, яко…
– Ястреб! Ха-ха!
Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, маслеными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голосов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал:
– Кам-маринского! Русскую!..
– Это мы всё сделали! – кричал Яков Тарасович, указывая на реку. – Наше все! Мы жизнь строили!
Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:
– А! Это вы? Ах вы…
И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услыхали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей…
– Это кто лается? – спросил Кононов, нахмурив брови…
– Эх! Не можем не безобразить! – сокрушенно вздыхая, произнес Резников.
Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.
– Гордеев!.. – тихо сказал Иона Юшков.
И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин.
Там, упираясь руками о стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду.
– Что вытаращили зенки? – спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.
– Упился! – качнув головой, сказал Бобров.
– И зачем его пригласили? – тихо шептал Резников.
– Фома Игнатьевич! – степенно заговорил Кононов. – Безобразить не надо… Ежели… тово… голова кружится – поди, брат, тихо, мирно в каюту и – ляг! Ляг, милый, и…
– Цыц, ты! – зарычал Фома, поводя на него глазами. – Не смей со мной говорить! Я не пьян – я всех трезвее здесь! Понял?
– Да ты погоди-ка, душа, – тебя кто звал сюда? – покраснев от обиды, спросил Кононов.
– Это я его привел! – раздался голос Маякина.
– А! Ну, тогда – конечно!.. Извините, Фома Игнатьевич… Но как ты его, Яков, привел… тебе его и укротить надо… А то – нехорошо…
Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.
– Эх, Фомка! – заговорил Маякин. – Опять ты позоришь старость мою…
– Папаша крестный! – оскаливая зубы, сказал Фома. – Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать… Я не пьян, – я не пил, а все слушал… Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил… а теперь крестника послушайте…
– Какие речи? – сказал Резников. – Зачем разговоры? Сошлись повеселиться…
– Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич…
– Лучше выпей чего-нибудь…
– Выпьем-ко! Ах, Фома… славного ты отца сын!
Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых, красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.
– Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! – сказал он твердо и с угрозой. – Будете слушать или нет, а я говорить буду… Выгнать здесь меня некуда…
Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:
– Но ежели кто пальцем тронет – убью! Клянусь господом богом – сколько смогу – убью!
Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шепот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми…
– Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали… что вы сделали самое настоящее и верное…
Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли… Купечество молчало, все плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал:
– Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума?
– О, с-сволочи! – воскликнул Гордеев, качая головой. – Что вы сделали? Не жизнь вы сделали – тюрьму… Не порядок вы устроили – цепи на человека выковали… Душно, тесно, повернуться негде живой душе… Погибает человек!.. Душегубы вы… Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?
– Это что же такое? – воскликнул Резников, в негодовании и гневе всплескивая руками. – Я таких речей слышать не могу…
– Гордеев! – закричал Бобров. – Смотри – ты говоришь неладно…
– За такие речи ой-ой-ой! – внушительно сказал Зубов.
– Цыц! – взревел Фома, и глаза у него налились кровью. – Захрюкали…
– Господа! – зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно-зловещий голос Маякина. – Покорнейше прошу – не препятствуйте! Пусть полает, – пусть его потешится!.. От его слов вы не изломитесь…
– Ну, нет, покорно благодарю! – крикнул Юшков.
А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо:
– Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел?
– Пошел прочь! – твердо сказал Фома, блеснув на него гневными глазами. – Иди вон к Маякину, лижи его, авось кусок перепадет!
Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону. И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их к месту своими словами и – не находил в себе таких сильных слов.
– Вы сделали жизнь? – крикнул он. – Кто вы? Мошенники, грабители…
Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позвал.
– Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторгу осудят, – прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь… В Сибирь на казенном повезут…







