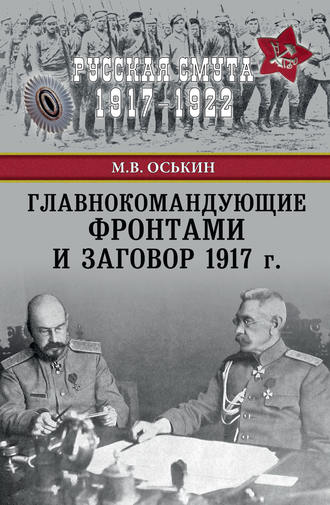
Максим Оськин
Главнокомандующие фронтами и заговор 1917 г.
В войсках же командарм-3 воспринимался в качестве отличного командира. И неудивительно, так как 3-я армия шла от победы к победе, от наград к наградам. А тот факт, что страдали соседние армии – 5-я и 8-я, офицерами и солдатами 3-й армии в расчет не особенно принимался. Например, Б.В. Сергиевский восторженно вспоминал, что 33-я пехотная дивизия (21-й армейский корпус) без отдыха была брошена на Рава-Русскую, что позволило отрезать австрийцев, и войска 3-й армии взяли только пленными 27 тыс. чел. О том, что такое положение вещей было обеспечено упорным сопротивлением 8-й армии против превосходящих сил неприятеля и наступлением корпусов 5-й армии на Томашов, конечно, в рядах армии не подозревали. Получалось, что «генерал Рузский был подлинным героем, которого офицеры и солдаты боготворили; все безусловно доверяли его знаниям и его военному гению»[27].
В результате наступления 9-й, 4-й и 5-й армий австрийские войска стали отступать. Чтобы не оставить в окружении половину армии, Конрад фон Гётцендорф, не сумев вырвать победу разгромом 3-й и 8-й русских армий, приказал отступать в ночь на 31 августа. Всего в ходе Галицийской битвы австро-венгры потеряли до 400 тыс. чел.; русские – 230 тыс. В течение 1–8 сентября, ведя преследование откатывающегося к Карпатам неприятеля, русские армии выходили к реке Сан.
Однако в рядах 3-й армии уже не было генерала Рузского. Разрекламированный на всю страну полководец получил повышение в должности – пост главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта (главкосевзапа). Командармом-3 стал комкор-8 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев.
Варшава – Лодзь – Августов
3 сентября 1914 г. ген. Н.В. Рузский становится главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта, сменив в этой должности ген. Я.Г. Жилинского, умудрившегося проиграть немцам Восточно-Прусскую операцию, имея полуторное превосходство в силах и задел в виде побед 1-й армии под Гумбинненом и 2-й армии при Орлау – Франкенау. Письмо офицера из штаба фронта сообщает: «С вступлением Рузского в командование армиями прусского фронта, наши действия там сразу приняли более идейный характер (стратегическая сторона). Жилинский этого не сумел сделать: его единственное стремление было то, чтобы армии не вырвались из его управления, поэтому он иногда душил частную инициативу и забывал все остальные»[28].
Н.В. Рузский стал первым русским командармом, получившим повышение до главкома фронта. Причины назначения именно генерала Рузского на Северо-Западный фронт заключались в нескольких факторах:
1. Принципиальная необходимость смены главкосевзапа ген. Я.Г. Жилинского, выказавшего ужасающую бездарность в период наступления в Восточную Пруссию, а затем еще и преступную растерянность, наряду с массой тяжелых ошибок в управлении войсками, во время оборонительных действий 1-й русской армии.
2. Новым главкосевзапом, естественно, мог стать лишь тот командарм, что наиболее отличился в сражениях августа месяца (причем – именно в наступательных действиях); из всех командармов к моменту принятия решения смены главкосевзапа последовательно от успеха к успеху шли только 3-я и 8-я армии.
3. Наряду с беспрецедентным награждением преимущества командарма-3 ген. Н.В. Рузского перед командармом-8 ген. А.А. Брусиловым являлись характерными для русской армии той поры: Академия Генерального штаба и старшинство в чине.
4. Поддержка кандидатуры ген. Н.В. Рузского со стороны начальника штаба Верховного главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевича и генерал-квартирмейстера Ставки ген. Ю.Н. Данилова, с чем был вынужден согласиться протежировавший генералу Брусилову великий князь Николай Николаевич.
5. Необходимость широкой рекламы в тылу и в действующей армии овладения Львовом, дабы затушевать неблагоприятное впечатление от поражения Северо-Западного фронта; соответственно, назначение генерала Рузского должно было показать, что ситуация будет исправлена в короткие сроки.
В начале сентября Северо-Западный фронт включал в себя три армии: 1-ю армию П.К. Ренненкампфа, в которую шли резервы; оправлявшуюся после Танненберга 2-ю армию С.М. Шейдемана; и создаваемую из корпусов второго стратегического эшелона 10-ю армию В.Е. Флуга. В итоге к десятым числам сентября русские могли полагать свое положение на Северо-Западном фронте достаточно стабильным: против сильной 8-й германской армии (8 полевых армейских корпусов, 2 кавалерийские дивизии и несколько отдельных дивизий ландвера и крепостных гарнизонов) стояли сразу три русские армии (16 армейских корпусов (частично – обескровленных) плюс многочисленная конница). Общая численность войск Северо-Западного фронта – около 435 тыс. штыков и сабель. Кроме того, из глубины страны в Польшу шли 1-й и 2-й Сибирские корпуса, и еще 2-й Кавказский корпус.
Назначение ген. Н.В. Рузского на должность главкосевзапа произвело благоприятное впечатление как на войска, так и на штаб фронта. До войны Н.В. Рузский пользовался определенной известностью в военных кругах как умный и строгий военачальник. К тому же слава «победителя Львова» вынуждала воспринимать генерала Рузского в качестве лучшей альтернативы тому бардаку, что творился при ген. Я.Г. Жилинском. Один из офицеров штаба Северо-Западного фронта Ю. Плющевский-Плющик в своем фронтовом дневнике так писал о назначении ген. Н.В. Рузского на должность главковсевзапа: «К этому назначению все отнеслись с полным доверием, а приветливый и спокойный вид генерала Рузского еще более усилил это впечатление. Новый главнокомандующий, первое, что сделал, обошел все помещения, поговорил с каждым и вообще дал понять, что он человек доступный, с которым можно работать, не только исполняя приказания, но и высказывая свое мнение. Дай Бог ему успеха, но тяжелое наследство он принял»[29].
Нельзя не отметить, что назначение ген. Н.В. Рузского было если и не самым верным, то все-таки наиболее логичным. Войска 3-й армии одержали несколько побед на Юго-Западном фронте – на Двух Липах, овладели Львовом, успешно оборонялись под Равой-Русской. Кто же еще мог претендовать на повышение? Вдобавок именно из 3-й и 8-й армий августа 1914 года выйдет больше всего командармов, начавших войну комкорами. В 8-й армии это комкор-8 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев, сменивший самого Рузского в сентябре; комкор-12 ген. Л.В. Леш и комкор-24 ген. А.А. Цуриков. В 3-й армии это комкор-10 ген. Ф.В. Сиверс, комкор-9 ген. Д.Г. Щербачев и комкор-11 ген. В.В. Сахаров. Один из них – генерал Сахаров – еще при царской власти также станет командующим фронтом – Румынским. А после революции этот пост займет Д.Г. Щербачев.
Однако теперь ген. Н.В. Рузский должен был действовать против немцев, а не австрийцев. Разница же между этими врагами прекрасно сознавалась еще до войны, а в ее ходе только лишь усугублялась. Кроме того, Рузскому противостоял лучший германский полководец Первой мировой войны (если не вообще лучший полководец из всех воюющих сторон) – начальник штаба германского Главного командования на Востоке ген. Э. Людендорф. Неудивительно, что о действиях генерала Рузского на Северо-Западном фронте разные люди в своих письмах говорили по-разному: «Очень жаль бедного генерала Жилинского, незаслуженно смененного и стоически перенесшего этот удар… Новый главнокомандующий Рузский – человек очень спокойный, простой и справедливый произвел самое лучшее впечатление»[30]. Или: «Рузский, увы, оказался превознесенным далеко не по заслугам, а его первые военные действия в Галиции – громадная удача и только. Здесь он себя ничем не рекомендует, и его далеко не хвалят свыше… Герои выше всякой похвалы – Брусилов и Радко-Дмитриев»[31]. Воевать против немцев оказалось далеко не одно и то же, что против австрийцев, и в 1915 г. победители австрийского фронта испытают это на себе.
В этот момент немцы потерпели поражение в Битве на Марне во Франции, 10 сентября начав отступление. Следовательно, германцы в лице главнокомандующего на Востоке ген. П. фон Гинденбурга и его начальника штаба ген. Э. Людендорфа могли рассчитывать только на свои силы, что уже находились в их распоряжении. В сложившейся ситуации – поражение армий Центральных держав во Франции и в Галиции – даже не лучшей, а единственно возможной обороной могло быть исключительно нападение. Перегруппировав львиную долю сил и средств в 9-ю германскую армию, Гинденбург и Людендорф, получив в подкрепление две австро-венгерские армии, 15 сентября перешли в наступление на Средней Висле.
План австро-германцев был прост и красив. Имея против себя превосходные в силах русские фронты на флангах – на подступах к Восточной Пруссии и перед Карпатами, Людендорф, намереваясь перехватить инициативу действий, бьет в самое слабое место русского фронта – в почти неприкрытую линию Средней Вислы. Овладев двумя переправами через эту линию – крепостью Ивангород и Варшавой, немцы могли бы запереть русских на линии государственной границы, не позволив им развить наступление на флангах. Кроме того, взятие Варшавы, как полагали немцы, имело бы громадный политический резонанс.
В свою очередь, русская Ставка намеревалась предпринять наступление сразу на Берлин: прямолинейный удар по кратчайшему направлению с целью быстрого окончания войны. Для этого 2-я армия Северо-Западного фронта должна была подтягиваться к Варшаве, а 4-я и 5-я армии Юго-Западного фронта – к Ивангороду. Общее руководство этими армиями вручалось штабу Юго-Западного фронта, в связи с неопытностью реорганизованного штаба Северо-Западного фронта и необходимостью восстановить мощь соединений 1-й и 2-й армий, потерпевших поражение в Восточно-Прусской наступательной операции. Созданная ударная группировка наступала бы в Познань, в то время как 1-я и 10-я армии блокировали немцев в Восточной Пруссии, а 9-я, 3-я и 8-я армии – в Карпатах. Людендорф предупредил русских, воспользовавшись преимуществом в сосредоточении и организации железнодорожного маневра. Поэтому, не успев подтянуть войска к намеченным пунктам, русские должны были обороняться, так как противник на первом этапе Варшавско-Ивангородской операции имел преимущество на главном направлении.
В середине сентября армии Северо-Западного фронта перешли к стратегической обороне по рубежам рек Неман, Бобр и Нарев, опасаясь нового удара германцев, столь блестяще проявивших себя в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, закончившейся поражением русской стороны. В этот момент между армиями двух русских фронтов образовался гигантский промежуток, достигавший чуть ли не 350 верст – целиком левый берег Вислы (русская Польша) от крепости Новогеоргиевск и Варшавы до реки Дунаец. С русской стороны на Висле находились лишь небольшие гарнизоны в Варшаве и крепости Ивангород, да кавалерийский корпус ген. А.В. Новикова.
Приказ Ставки указывал новому главкосевзапу отправить 2-ю армию к Варшаве. Однако, не заметив начавшейся перегруппировки германцев, ген. Н.В. Рузский продолжил медленное отступление тремя армиями (1-я, 2-я, 10-я) перед 2,5 корпусами германцев, которые были оставлены здесь Гинденбургом в 8-й армии ген. Р. фон Шуберта. Прочие германские войска, составив 9-ю армию, 15 сентября бросились на крепость Ивангород. Итак, преувеличенное мнение о качестве германской военной машины, закономерно на определенном этапе после Танненберга перерастающее в своеобразную «германобоязнь», сразу же охватило генерала Рузского и его сотрудников. Теперь главкосевзап всемерно перестраховывался, не желая портить свою львовскую репутацию выдающегося полководца. Оттого и требовался как минимум двойной перевес в силах, чтобы свести риск до незначительной величины. Впрочем, в кампании 1914 г. ген. Н.В. Рузский вообще предпочтет не рисковать, лишь бы не потерпеть поражения, сравнимого с разгромом 2-й армии под Танненбергом.
Отход армий Северо-Западного фронта только увеличивал расстояние между сосредоточивающейся для наступления группировкой и северным крылом. Своим отступлением генерал Рузский еще больше оголял варшавское направление, оттягивая свои войска к северо-востоку. Более того – главкосевзап вообще предложил отвести 2-ю армию на линию Белосток – Бельск, что отдавало врагу Варшаву без сопротивления. Даже у такой неволевой и малокомпетентной Ставки, как русская, подобное предложение вызвало недоумение, смешанное с негодованием. Ясное дело – не мог же ген. Н.В. Рузский, только-только совершивший стремительный карьерный взлет (первый из командармов, повышенный до главнокомандующего армиями фронта – фактически четвертое лицо в военной иерархии действующей армии – после Верховного главнокомандующего, его начальника штаба и главкоюза ген. Н.И. Иванова), пожертвовать этой карьерой. Вот и отступали армии Северо-Западного фронта перед противником, уступавшим им в численности по меньшей мере впятеро.
Русский Верховный главнокомандующий отлично понимал, что Гинденбург не имеет в своем распоряжении и 10 корпусов, так к чему же отступать еще дальше, сдавая без боя линию Вислы, откуда должно было развиваться новое наступление? Так что вместо разрешения на отход генерал Рузский получил совершенно логичный и оправданный противоположный приказ о переброске 2-й армии к Варшаве и подготовке нового наступления в Восточную Пруссию силами 1-й и 10-й русских армий. Руководство ударной группировкой вверялось главкоюзу ген. Н.И. Иванову, и, таким образом, в компетенцию Юго-Западного фронта переходила и 2-я армия ген. С.М. Шейдемана. Именно поэтому ген. Н.В. Рузский не торопился с выдвижением 2-й армии в район Варшавы, предлагая сдать ее противнику. Это при том, что в составе 2-й армии числилось лишь два корпуса. В ходе боев за Варшаву такие действия главкосевзапа едва-едва не приведут к падению польской столицы и проигрышу операции.
В то время как 4-я и 5-я армии Юго-Западного фронта, не успевая подтянуться к Ивангороду, вели тяжелые бои вдоль линии Средней Вислы, штаб Северо-Западного фронта организовал новое наступление в Восточную Пруссию. Тем не менее наступление русских 1-й и 10-й армий, включавших в себя 9 корпусов числом в 280 тыс. чел., было успешно отражено двумя усиленными германскими корпусами общей численностью около 90 тыс. штыков и 6 тыс. сабель: 8-я германская армия ген. Р. фон Шуберта опиралась на заблаговременно подготовленную систему укреплений, а русские войска под водительством генерала Н.В. Рузского никак не могли отказаться от методов фронтальной атаки. Так как немцы были все-таки несколько оттеснены в Пруссию в боях 15–30 сентября, Ставка объявила сражение «победой», но немцы в принципе и не могли разбить русских, имевших в своих рядах как минимум 4-кратное превосходство в живой силе. Зато действия 8-й армии сковали русские резервы до 20 сентября, как раз в момент броска ударной группировки ген. П. фон Гинденбурга к Варшаве и Ивангороду.
Главным виновником фактического провала операции (уничтожить немцев ведь все равно не удалось) был выставлен командарм-10 ген. В.Е. Флуг, которого отстранили с поста. Признавать собственную вину, заключавшуюся в оперативно-тактическом неумении организовать не только фронтовую, но даже и отдельные армейские операции, главкосевзап ген. Н.В. Рузский не собирался, что он неоднократно докажет и впоследствии. При этом главной причиной поражения стал отказ штаба фронта от маневра: русские части двигались вперед «стеной корпусов», нанося фронтальные удары в лоб. Такой пассивный метод ведения боя подчеркивает «меньшую тактическую подготовку» войск, «боязнь маневра» с их стороны. В условиях современной войны, ведущейся могущественным огнем и громадными массами войск, «не является необходимым, как сто лет тому назад, держать корпуса локоть к локтю, образовывать оперативную фалангу. Поддержка столкнувшихся с неприятелем частей становится возможной с пунктов, все более и более удаленных от места завязки боя»[32]. Талантливый полководец будет вести сражение на большем пространстве, умело используя тактику и оперативное искусство. Пространственность маневра вообще должна была быть присуща русской стороне, как обладающей превосходством в людском числе. Между тем русские полководцы «скучивали» войска, опасаясь фланговых ударов германцев, что приводило к большим потерям, ибо противник имел преимущество в огне. Лишь немногие отваживались действовать маневром и умением, а не числом и кровью.
Это было только начало. Не сумев захватить крепость Ивангород, Гинденбург бросил на Варшаву ударную группу ген. А. фон Макензена в составе трех корпусов. 25 сентября немцы заняли Лодзь, а 26 сентября подошли к району Варшавы, войдя в местечко Гройцы. Таким образом, перейдя к стратегической обороне под Ивангородом, Э. Людендорф перенес наступательные усилия на варшавское направление. Рузский не собирался защищать Варшаву, намереваясь закрепиться на правом берегу Вислы, но Иванов «настоял на необходимости удержать Варшаву и использовать ее как плацдарм для перевода нескольких армий на левый берег Вислы и дальнейшего наступления на Берлин»[33].
В этот момент польскую столицу защищал Варшавский отряд ген. П.Д. Ольховского численностью в 55 тыс. штыков при 1629 орудиях, из которых 1459 орудий находилось в крепости Новогеоргиевск, севернее Варшавы (противник надвигался с юга), так как перед войной Варшава как крепость была упразднена и, следовательно, почти разоружена. Примечательно, что в этот тяжелейший момент ген. Н.В. Рузский нашел время, чтобы побывать в Ставке. 21 сентября в Барановичи, где находилась Ставка, прибыл сам император. Рузский приехал на следующий день, удостоился беседы с Николаем II и был произведен в генерал-адъютанты. Награда, конечно, вещь нужная, однако можно ли было подождать – когда германцы рвались к Варшаве, а фронт нуждался в управлении своего командующего?
В упорных кровопролитных боях 28–29 сентября немцы прижали Варшавский отряд к Висле, заняв ряд предместий. Варшава готовилась к спешной эвакуации. Так как 2-я русская армия еще не успела подойти к Варшаве, то город был бы обречен. Преувеличение русскими сил противника еще более играло на стороне немцев. Сумятица у столицы Польши даже вызвала слухи о смене командования: «Дела сейчас вообще плохие. Вместо Рузского теперь Куропаткин. Рузского выставили за то, что он стоял за отдачу Варшавы и выравнивание фронта. Кроме того, у него в штабе оказались шпионы»[34]. Обратим внимание, что назначение А.Н. Куропаткина на должность главнокомандующего фронтом муссировалось уже осенью 1914 г.
Столицу Польши спасли подошедшие эшелоны с 1-м Сибирским и 4-м армейским корпусами, вступившими в бой прямо с колес. Группа генерала Макензена была остановлена, а затем отброшена от Варшавы. Так как польскую столицу непосредственно защищала 2-я армия Северо-Западного фронта, хотя ответственность за операцию нес штаб Юго-Западного фронта, вся слава досталась главкосевзапу ген. Н.В. Рузскому, практически не имевшему отношения к обороне Варшавы. Ведь 2 октября, уже после кризиса в Варшавском сражении[35], 2-я армия была возвращена в состав Северо-Западного фронта, и формально вышло, что обороной польской столицы руководил штаб Рузского. О том, что атаки 4-й и 5-й армий через Вислу позволили сковать часть неприятельских резервов, которые могли бы подкрепить группу Макензена, вообще не говорилось.
В результате 30 сентября директивой Верховного главнокомандующего ответственность за подготовку и выполнение контрудара была возложена на ген. Н.В. Рузского. Весь первый период Варшавско-Ивангородской операции генерал Рузский старался саботировать указания Ставки по выделению войск из состава Северо-Западного фронта под Варшаву. Главкосевзап боялся наступления противника из Восточной Пруссии и своего поражения, что в корне подрывало его послельвовскую репутацию. Такое опасение имело следствием постоянное намерение действовать против германцев превосходными силами, с абсолютным исключением риска из оперативной деятельности, и стремление держаться принципов раз принятого плана, с запаздыванием реагируя на изменение обстановки. Известный психолог указывает на «инертность ума» таких полководцев: «Упорство полководца никогда не должно иметь свой источник в недостаточной подвижности его ума, в косности мысли. Хороший полководец всегда видит наряду с принятым им планом действий возможность ряда других способов решения задачи. Бывают люди, ум которых настолько подчиняется однажды принятой ими руководящей идее, что не способен даже понять другого хода мысли, противоречащего этой идее или никак с ней не связанного… к роли военачальника люди с таким складом ума малопригодны. Еще хуже, если ум скован не собственной идеей, а определенными шаблонами мысли и действия. В первом случае ум, невзирая на узость и малую подвижность, может быть творческим и глубоким, во втором случае имеет место подлинная косность и слабость ума. Полководцы с таким инертным умом, находящимся во власти мертвых шаблонов, заведомо обречены на неудачи»[36].
Иными словами, в стремлении удержать на плаву стремительно развивавшуюся карьеру, ген. Н.В. Рузский боялся потерпеть поражение и быть смененным. Потому-то он перешел к обороне превосходными силами. А в конечном итоге повернул дело так, что оказался заодно и «героем Варшавы». Нельзя не сказать, что передача района Варшавы и права на контрнаступление от ее фортов были переданы Рузскому Ставкой в связи с неспособностью главкоюза Иванова справиться с задачей руководства той массой войск, что располагалась между Варшавой и Перемышлем. Поэтому управление войсками, действующими на Средней Висле, было разделено между фронтами, причем главкосевзапу логично достался район Варшавы[37]. Определенные круги польского истеблишмента даже настаивали на преподнесении главкосевзапу польской общественностью почетной шпаги «За спасение Варшавы». Тем не менее генерал Рузский отказался от всех этих ненужных почестей. Однако в памяти общественности имя Н.В. Рузского стало прочно связываться с отражением германского наступления на Варшаву в 1914 г.
Со сосредоточением 2-й, 4-й и 5-й армий Ставка предписала войскам фронтов перейти в атаку. В ходе русского контрнаступления, начавшегося 8 октября, австро-германцы потерпели поражение и стали отступать. Но при этом генерал Людендорф составил план нового удара по Варшаве с северного фланга через крепость Торн. И пока русские фронты, преодолевая разрушенную противником в ходе отхода инфраструктуру, медленно сосредоточивались на левом берегу Вислы, готовясь к очередной попытке наступления на Берлин, германцы уже проводили перегруппировку. Уже 29 октября, не дав русским времени на передышку, германская 9-я армия ген. А. фон Макензена бросится вперед, отрезая 2-ю русскую армию, расположившуюся в Лодзи. Главным козырем немцев, дававшим им преимущество в бою, было превосходство в тяжелой артиллерии. В приказе по войскам фронта от 16 октября 1914 г. Рузский в ответ на сообщения, что войска жалуются на впечатление огня тяжелой германской артиллерии, указал: «Внушить войскам, что сила огня тяжелой артиллерии проявляется, главным образом, при стрельбе на большие дистанции и лучшим средством ослабить потери от этого огня – это приблизиться к противнику на меньшую дистанцию, так как на средних, а особенно на близких дистанциях сила огня тяжелых орудий значительно слабее; переменить же позиции тяжелая артиллерия скоро не может»[38]. То есть – атака есть лучшая панацея от гибельности огня.
Нельзя не отдать должное организаторскому уму ген. Н.В. Рузского. Подготавливая наступление в Германию, великий князь Николай Николаевич потребовал от штабов фронтов представить собственные идеи по поводу предстоящего наступления. Рузский предложил наступать тремя группировками от Восточной Пруссии до Галиции. Ударная часть – 2-я, 5-я, 4-я армии. Корпуса 1-й армии – прикрывают главную группировку со стороны Восточной Пруссии. Таким образом, генерал Рузский фактически предлагает разделить разросшийся Северо-Западный фронт на два (23 октября именно Н.В. Рузский вновь предложил создать против Восточной Пруссии самостоятельный фронт[39], сознавая, что одновременно руководить и наступлением в глубь Германии, и сковывать восточнопрусскую группировку противника – дело нелегкое). Также главкосевзап предлагает наступать сразу на всем Восточном фронте, чтобы не давать неприятелю возможности маневрировать резервами, перебрасывая их на избранные направления.
В свою очередь, главкоюз ген. Н.И. Иванов смещал фронт наступления к югу – в район Кракова и Верхней Вислы. План ген. Н.В. Рузского имел в виду силезско-познанское направление, которое кратчайшим путем вело к Берлину. Понятно, что предложение главкосевзапа более отвечало намерениям великого князя Николая Николаевича. Так что Янушкевич отказал штабу Юго-Западного фронта в штурме Краковского крепостного района, предпочитая наступать прямо на Берлин. В итоге, как стало ясно, Верховный главнокомандующий, рассмотрев предложения главнокомандующих фронтами, принял немного измененный план генерала Рузского, как более отвечающий склонным к скорейшей «выручке» союзников идеям Ставки. Компромиссным решением стал отказ от образования нового фронта, с передачей ударной группировки в состав Северо-Западного фронта, которая по большей части и составлялась из его войск. В то же время сосредоточение в 10-й армии ген. Ф.В. Сиверса, блокировавшей Восточную Пруссию, больших сил не позволит главкосевзапу иметь сильные резервы.
Таким образом, великий князь Николай Николаевич предоставил свободу инициативы полностью в руки главнокомандующего Северо-Западным фронтом, который должен был возглавить вторжение в Германию. При этом штаб Ставки не внес никаких уточняющих положений в разработанный штабом Северо-Западного фронта и впоследствии утвержденный Ставкой план наступления. Единственное, на чем настаивал Верховный главнокомандующий, – это поджимание сроков перехода в наступление, чтобы не потерять темпа после окончания Варшавско-Ивангородской операции. Соответственно, ген. Н.В. Рузский фактически становился главным виновником исхода операции: слава победы или горечь поражения, прежде всего, ложились на его ответственность.
Еще в ходе контрнаступления ген. Н.В. Рузскому было выказано очередное благоволение Ставки. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич 22 октября представил главкосевзапа к награждению орденом Св. Георгия 2-й степени. За две недели до того к этой же награде был представлен главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванов. Сам великий князь Николай Николаевич был награжден лишь орденом Св. Георгия 3-й степени. Относительно высокой чести этого ордена следует сказать, что к началу Первой мировой войны в Российской империи в живых было всего девять кавалеров ордена Св. Георгия 3-й степени, а кавалеров 2-й степени – ни одного[40].
Теперь бывший начальник и подчиненный сравнялись друг с другом. Следовательно, взятие Львова было приравнено к общему руководству четырьмя армиями фронта в Галицийской битве. А главное, беспрецедентная награда в виде двух орденов Св. Георгия еще более увеличилась, став тройной наградой за одну и ту же операцию. Как ни суди, а это – оценка действий 3-й армии и лично генерала Рузского в ходе Галицийской битвы Верховным главнокомандованием и, следовательно, оценка самого Верховного главнокомандования, допустившего данный прецедент. Из трех лучших полководцев Российской империи периода Первой мировой войны двое – М.В. Алексеев и А.А. Брусилов – вообще не получат такой высокой награды. Третий – ген. Н.Н. Юденич – будет награжден только после Эрзерума, получив две предшествовавшие степени за Сарыкамышскую и Алашкертскую операции. Месяцем раньше ген. Н.В. Рузский был пожалован вензелем генерал-адъютанта.
29 октября германцы начали новую операцию – Лодзинскую. Успешно совершив стремительную и не разгаданную русскими перегруппировку своих сил из Познани в Восточную Пруссию, германское командование на Востоке вновь вырвало инициативу действий. Ударная 9-я армия ген. А. фон Макензена в составе пяти с половиной армейских корпусов и пяти кавалерийских дивизий, сведенных в два кавалерийских корпуса, нанесла удар встык между 2-й русской армией ген. С.М. Шейдемана, готовившейся в Лодзи к наступлению на Берлин, и 1-й русской армией ген. П.К. Ренненкампфа, еще только подтягивавшейся к Ловичу от Варшавы. Часть сил 9-й германской армии была переброшена из Франции. Тактической целью удара ставилось окружение 2-й русской армии в Лодзи и ее уничтожение. Стратегической целью – срыв готовившегося на 31 октября русского наступления в глубь Германии. По фронту удар 9-й германской армии поддерживался атаками 2-й, 1-й и 4-й австро-венгерских армий, а также немецкой группой ген. Р. фон Войрша.
В свою очередь, главкосевзап даже не сумел четко сориентировать своих подчиненных в задачах готовившегося наступления. Полагаясь всецело на численное преимущество, и не надеясь на маневр, Н.В. Рузский намеревался вытеснить немцев на территорию Германии, давя и нажимая числом, а не умением. Вдобавок к просчетам штаба фронта, испытывавшего «шатание» оперативной мысли, добавились некомплект войск и, как его следствие – отсутствие резерва главкома, который мог бы парировать любые не предвиденные планом случайности. В результате «главнокомандующим фронтом не была поставлена ясная и четкая задача в предстоящей операции командующим армиями. Последние, в традициях заученной в Академии Генерального штаба устаревшей стратегии, уяснили боевую задачу как равномерное наступление по фронту и вытеснение противника. Таким образом, не добившись единого понимания предстоящей операции командующими армий, корпусов и дивизий, главнокомандующий обрек фронт на неподготовленное наступление в отсутствие сильного резерва»[41]. Добавим, что и директива Ставки требовала закрепления на определенных рубежах, прежде чем приступить к наступлению на Берлин.
Русское командование ожидало обороны неприятеля в Познани, строго к западу от Вислы, а получило удар с севера за два дня до окончания сосредоточения для наступления. Тем самым русское планирование рушилось в самом начале: теперь уже русские фронты были вынуждены обороняться. В составе 9-й германской армии насчитывалось 155 000 штыков и сабель при 960 орудиях и 450 пулеметах. С учетом резервов – 280 000 чел. при 1450 орудиях и 700 пулеметах. Три русские армии (1-я, 2-я и 5-я) имели в своем составе 368 500 штыков и сабель при 1300 орудиях и 740 пулеметах, в том числе в составе 2-й армии 160 000 чел. при 540 орудиях и 540 орудиях[42].



