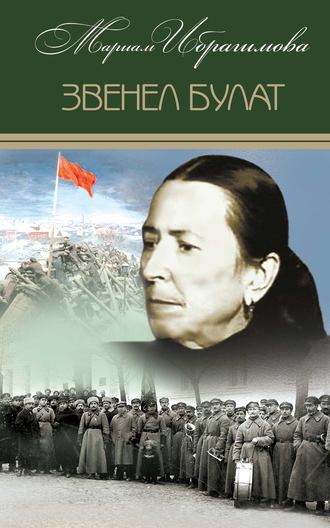
М. И. Ибрагимова
Звенел булат
Обрисовав представителей революционного крыла, автор подходит к опосредованным характеристикам представителей контрреволюционного лагеря. Тот же старый Гаджи-Магома рассказывает Джаваду о Нажмутдине Гоцинском. На вопрос о нём старик отвечает:
«– Как не знать соплеменника? Не только в Аварии, весь Дагестан знает его.
– Большой человек?
– Очень. Выше меня на две головы, а толще раз в десять.
– Сильный, значит? Расскажи о нём, – попросил Джавад.
– Расскажу, коль интересуешься. Человек может стать известным и влиятельным, если обладает большим умом или состоянием. Нажмутдин – человек богатый, учёный-арабист».
Несколько неожиданным для читателя становится история, рассказанная Гаджи-Магомой об отце Нажмутдина Гоцинского. Им был наиб Шамиля Доного-Магома. Старик характеризует его как хитрого и изворотливого человека, сумевшего добиться милости у имама. Заметим попутно, что имя Шамиля не раз встречается в повести, в любой ситуации Шамиль служит для автора мерилом всего лучшего, достойного. «Назначил непревзойдённый, доверчивый имам Шамиль его наибом в нашем обществе. Достигнув власти, Доного-Магома предал забвению законы шариата».
Власть и богатство, основанные на обмане и предательстве, которое позднее совершил Доного-Магома в отношении Шамиля, заложили основу могущества Нажмутдина Гоцинского: «Оставил ему Доного в наследство тысячи голов скота, обширные пастбища, богатые кутаны».
Рассказ старика завершается словами: «Но всё-таки богатым не только Аллах, вся нечистая сила помогает. Какие бы ни происходили перемены во власти, избирают Нажмутдина в советники, возводят в чины, даже не видя его лица».
Образ Гоцинского, нарисованный в воображении Джавада со слов старика, дополнился личным впечатлением, когда Джавад увидел его въезжающим в город во главе своего войска: «Один из них гигант в высокой папахе бухарского каракуля, обвязанной чалмой. Заняв почти все сиденье, он утопал в меховой шубе, покрытой тёмным сукном. Широкое белое лицо, чёрные брови, тяжёлые веки над тёмной щелью полузакрытых глаз».
Подчёркнутая значимость и монументальность образа Гоцинского резко контрастирует с описанием фигуры Узуна-Хаджи: «Закутавшись в бурку, он, как диковинный птенец, нервно тряс головой; его выпуклые глаза глядели то с надменным самодовольством на простых смертных, то с собачьей покорностью на своего господина».
Трудно судить, по каким источникам создавались эти словесные портреты и были ли эти люди настолько карикатурны в жизни, хотя облик Гоцинского в повести дан ещё весьма пристойным, если сравнить многочисленные описания его внешности в ряде других произведений дагестанских авторов. Полковник Джафаров в своих воспоминаниях уделяет большое место личности Гоцинского. В частности, он характеризует Гоцинского как крайне алчного человека. Одновременно он подчёркивает, что «Нажмутдин был очень умным человеком. Конечно, кругозор его был не очень широк. Всё же представление о том, что делается в мире, вообще он имел». Узуна-Хаджи полковник характеризует так: «Он вовсе не был арабистом, учёным-шариатистом. Это, скорее, совершенно невежественный человек, который едва ли имел ясное представление о шариате и вообще об исламе… На деле он был просто ловким жуликом».
Что касается остальных исторических фигур, известных своей приверженностью лагерю контрреволюции, то, к чести автора, она постаралась дать максимально объективные их портреты.
Откровенно любуется она кавалером четырёх Георгиевских крестов Магомедом Сафаровым (Джафаровым), с удовольствием рисует его портрет, описывает его жилище: «Ярко светились в этот вечер окна одного из шуринских особняков. Сквозь густую сеть белоснежных гардин виднелась большая керосиновая лампа с матовым абажуром, висящая над круглым столом. На столе были расставлены бутылки. Рядом с хрустальными бокалами струился в пепельнице дымок дорогих папирос. За столом, оживлённо беседуя, сидела группа офицеров. Среди них особенно обращал на себя внимание высокий, стройный, с широкими плечами мужчина средних лет, с волевыми чертами смуглого сухощавого лица. Он часто поднимался из-за стола, сверкая чёрными глазами, оживлённо жестикулируя рукой, что-то рассказывал. Это был хозяин дома – полковник Магомед Сафаров».
Неоднозначно отношение автора и к полковнику Кайтмасу Алиханову. Причисляемый многими авторами к злейшим врагам советской власти и потому изображавшийся фигурой традиционно негативной, Алиханов предстаёт в повести в непривычной для нас ипостаси. Писательница с должным уважением отнеслась к его личности, отметив многие, незамеченные другими, положительные человеческие качества.
Отмечая его высокое происхождение, его геройство на полях многих сражений, его авторитет среди бойцов, автор пишет: «Кайтмас Алиханов с первых же дней свержения русского самодержавия заколебался. Где-то в глубине души его теплилось чувство тяги к новому. Вначале он лояльно относился к советской власти. Но потом ссора с Махачом Дахадаевым привела его в лагерь контрреволюции. Не по душе ему были и заносчивые, самовлюблённые отпрыски местной знати, любыми путями стремившиеся к захвату власти. И всё-таки такие же богачи, как и он, казались ему менее опасными».
Выделяясь из общего круга представителей своего класса, зачастую противостоя ему независимостью суждений и поступков, он все-таки остается человеком своей социальном среды. Ярко выписанный образ Алиханова занимает в книге достаточно чёткое место. В раскрытии этого образа, как и образа М. Сафарова, писательница часто использует психологические характеристики. Стремясь изобразить внутренний мир своего героя, описывая разные душевные состояния, она пытается зафиксировать нюансы его поведения, а главное – выявить психологический конфликт в душе Кайтмаса Алиханова. Она идёт от поступков героя к объяснению их мотива, к тайному, скрытому в глубине души. Наиболее убедительно Алиханов раскрывается в своем диалоге с шейхом Гасаном, к которому он, обуреваемый сомнениями в правильности своего пути, пришёл за советом:
«– Брат мой Гасан! Будучи несостоятельным человеком, не занимая высокого поста, не имея чинов и заслуг, ты пользуешься среди народа не меньшим авторитетом, чем сам Гоцинский. Я всегда с твоим мнением считался, но, к сожалению, ничего не услышал сегодня.
– Слишком поздно ты решил советоваться со мной. И что для тебя теперь значит мой совет, когда рядом с тобой имам?
– Да, мне пришлось помириться с врагом, забыть мелочные обиды во имя достижения большой цели.
– Добавь, Кайтмас, – личной цели.
– И личной, и общей.
– Общей, если иметь в виду тех, кто вас послал, и тех, с кем ты пришёл, а народ от этого пострадает ещё больше.
– Что поделаешь, без страданий и жертв не обходятся большие дела».
Между Кайтмасом и шейхом возникает спор об истинном благе для народа, где шейх занимает предреволюционную позицию, а полковник, признавая его правоту, всё же не соглашается до конца принять его доводы. Когда шейх Гасан напоминает Кайтмасу о нищете, царящей в горных аулах, тот вопрошает:
«– Скажи, шейх, когда этого не было в наших горах?
– Это было, это есть, но я бываю счастлив от мысли, что когда-нибудь этого не будет.
– Так будет всегда! Не только люди, но даже сам Господь Бог, повелевающий дневным светилом, не может всех одинаково обогреть. Ты думаешь, что большевики способны принести счастье нашему народу? Нет. Взгляни на человеческие руки. Сама природа создала их так, чтоб цепко держаться, хватать, тянуть к себе. Я не верю людям. За каждым кажущимся общим делом таится личное, шкурное.
– В таком случае мне не о чем говорить с тобой. Значит, ты, Кайтмас, не веришь мне. А я верю людям, верю в доброту и торжество справедливости, потому что не обманываю себя и других. Прощай, Кайтмас! Жаль мне тебя. Боюсь, что не кончится добром ваша затея».
Полковник остался разочарованным и полным сомнений. В глубине души слова шейха нашли отклик, но он не признавался в этом. «Для себя он уже ничего не хотел. Но у него было три сына – молодых, крепких, стройных, как сосны, что растут на заснеженных склонах Цунтинского хребта. Он жил ими. Только они радовали его. Всё, что он имел и что хотел иметь, должно было принадлежать им. А если слова шейха Гасана – само пророчество? Если всё это начало большой, неизбежной беды? Дрожь пробегала по его сухощавому, мускулистому, ещё крепкому телу.
Так пришла ночь. А с рассветом он вновь стал военачальником – непоколебимой воли, немногословным, требовательным к себе и к воинам».
Лаконичность изложения не мешает Ибрагимовой отмечать характерные детали, способствующие более полной, ёмкой обрисовке образов.
Художественная палитра её не отличается большим разнообразием оттенков. Тем не менее все герои чётко индивидуализированы, что проявляется начиная с внешнего облика вплоть до речевой характеристики. Отмечены даже характерные черты поведения каждого из них. Драматизм и душевная напряжённость Кайтмаса Алиханова выдает сильную, волевую личность.
Менее чётко, пунктирно обрисован образ Муслима Атаева, служившего у деникинских «добровольцев» личным адъютантом генерала Эрдели. В обрисовке черт личности Атаева автор также прибегает к приёму самораскрытия персонажа через диалог. Интересен диалог Муслима Атаева со своим родственником, большевиком Магомед-Мирзой Хизроевым. Ибрагимова показывает, как в процессе этого диалога у Атаева меняется угол зрения на происходящее в дагестанском обществе. Как и большинство диалогов повести, данный диалог информативен, даёт читателю дополнительное представление о том, что движет собеседниками в их жизненном выборе. Логика М. Атаева проста и по-своему убедительна, но имеет слабые места, чем и воспользовался Хизроев. Для убеждения собеседника у него имеются веские основания, причины и доводы, да и сама ситуация, в которой находится Атаев, способствует тому, что разговор его с родственником не остался без последствий. Переход Атаева в ряды защитников революции произошёл не сразу, но внутренняя решимость сделать это мотивирована, подготовлена душевным процессом. Он приводит свои аргументы, не лишённые здравого смысла и логики:
«Мы, царские офицеры, не все, конечно, а некоторые, кроме военного чина, ничего не имели. Это был единственный источник нашего существования. Мы служили всем, кто нас нанимал за деньги.
Большевики считали нас врагами. Не могли же мы считать их друзьями. Между нами легла непроходимая пропасть. Если теперь в униженном положении мы явимся к вам в раскаянии, нам не поверят. Я хотел бежать в Турцию, но, не имея средств, решил умереть на родине».
Обращение Атаева в иную идеологическую ипостась происходит в повести довольно скоро, немалую роль здесь сыграл и фактор кровнородственных связей, который так много значил и значит для кавказского менталитета.
«– Ты ошибаешься, Муслим. Вот я большевик, но не считаю тебя непримиримым врагом.
– Ты, Магомед-Мирза, забываешь, что в наших жилах кровь одного предка. Если бы тебе как большевику грозила опасность, я – белый офицер – заслонил бы тебя собой. Это говорю не ради красного словца и не для того, чтобы снискать пощады или помилования через тебя у большевиков… Да ты и сам знаешь, что это противоречит нашим убеждениям».
Аргументация Хизроева весьма проста, но ему удаётся быстро убедить собеседника.
Атаев сомневается в верности пути, на котором стоят большевики:
«– В наше время, в сложном лабиринте спутанных дорог трудно сказать, который из путей верный.
– Верный тот путь, по которому идёт народ.
– Народ идёт не сам, он следует за предводителями.
– Если предводитель от народа преданный, любящий и любимый народом, он не свернёт с пути истинного, ведя за собой остальных.
– Согласен.
– Так вот, если, наконец, согласен, должен тебе посоветовать. Сейчас же займись мобилизацией хунзахской молодёжи. Собери отряд, поезжай с ним в Шуру. Иди к Советскому правительству с повинной».
Усилия писательницы прорваться к максимальной исторической достоверности сказываются и в её уважительном отношении к религиозности некоторых своих героев. В период написания книги (60-е годы) богоборческие мотивы всё ещё явственно звучали в любом из произведений, посвящённых историко-революционной тематике. Невозможно было представить положительного героя, творящего молитву или обращающегося за помощью к имени Божьему. Это было прерогативой отрицательных персонажей, явных злодеев.
Не то у Мариам Ибрагимовой. Её герои, революционные деятели, осознают свои жизненные ценности, главной из которых оказывается их принадлежность традиции, характеризующей их как истинных дагестанцев. С самого начала и до конца повести Джавад и Манаф, а также их друзья, родственники и соратники обрисованы как верующие мусульмане, вовремя совершающие намаз и живущие в соответствии с нормами шариата. Революция у неё не сопрягается с лютующим в ту пору в России атеизмом. Удивительно органично, с большим тактом совмещает писательница веру в лучшую жизнь с верой во Всевышнего в душах простых людей.
Следуя логике факта, Мариам Ибрагимова прекрасно осознавала, что в Дагестане не могло так скоро, как в России, привиться атеистическое безумие. Это произошло позже, через десять-пятнадцать лет, но тогда, в 20-е годы, эта тенденция к безбожию была едва приметной.
Ещё более непривычным является причисление религиозных деятелей, носителей идей шариата, шейхов и имамов к ряду прогрессивных деятелей. Такими в повести являются Али-Хаджи Акушинский, шейх Гасан. Для литературы того периода гораздо более привычными были образы жадных и глупых служителей культа. Традиция, берущая начало из фольклора и продолженная в рассказах Ю. Гереева, повести К. Закуева и многих других произведениях, здесь оказалась разрушенной до основания.
Единственный устоявшийся стереотип – образ имама Гоцинского, но здесь он предстаёт скорее как представитель политических сил, нежели как духовное лицо.
Погружённые в водоворот бурных событий герои повести «Звенел булат» становятся свидетелями острейших исторических коллизий, и не только свидетелями, но и непосредственными участниками их.
Так частная жизнь человека закономерно входит в историческую жизнь общества, а герои повести оказываются связаны не просто субъективным опытом рассказчика, но и самим движением истории.
Мариам Ибрагимовой во многом удалось реставрировать исторические события, представить реальных персонажей на реальном фоне и при этом избежать многих идеологических ловушек и штампов.
Это стремление не искажать факты в угоду властям предержащим и стало причиной долгих мытарств писательницы с изданием главного произведения её жизни – романа «Имам Шамиль».
Звенел булат
Документально-историческая повесть

Глава первая
Город дрогнул, потрясённый орудийным залпом. Забурлил людской поток, пробуждённый от утреннего сна. Тёмным паводком хлынул народ к Артиллерийской бухте. В порт никого не пускали. Полиция и солдаты оттесняли толпу. Беспорядочную винтовочную стрельбу заглушала частая дробь пулемёта.
Гавань, над которой обычно голым лесом поднимались корабельные мачты, была пуста… Огромный корабль, охваченный алыми языками пламени и чёрными клубами дыма, медленно погружался в воду. Вода, подёрнутая радужной пеленой мазута, отражала зарево пожара. Матросы в смятении, сбросив бушлаты, в тельняшках, как птицы слетали с бортов, стремительно плыли к берегу, но, не достигнув его, исчезали под водой. Пули настигали и тех, кто хотел скрыться в открытом море. Волны захлёстывали палубу, корму. Наконец исчезли чёрные трубы, похожие на дула орудий, обращённых в синь неба. Стрельба прекратилась. Воцарилась тишина, чёрными пятнами колыхались на воде немые бескозырки – свидетели случившейся трагедии.
Понурив голову, расходились люди. Только трое продолжали стоять почти у самого берега. Чумазый босоногий мальчик лет двенадцати, которого звали Джавадхан. Рядом с ним стоял среднего роста широкоплечий человек в папахе. По ястребиному профилю смуглого лица нетрудно было узнать в нём горца. Это был брат Джавадхана Манаф. На расстоянии трёх шагов от них, словно солдат на смотре, застыл высокий блондин в инженерской фуражке. Сквозь сверкающие стёкла пенсне из-под тяжёлых полуопущенных век виднелись проницательные глаза.
Мальчик смотрел на место страшного происшествия с невысокого парапета. Он думал об убитых и утонувших матросах. Быть может, среди них были и те добряки, которые в порту или на корабле весело восклицали: «Здорово, рабочий класс!» И те, кто, пожав его измазанную сажей руку, подводил к пивной будке, наливал полный стакан пива, говоря: «Пей, браток, от пуза, твоё здоровье!» – звонко чокались пенящимися пивными кружками.
Русские! Никогда не думал Джавадхан, что ему до слёз будет жаль этих иноверцев. Из старинных песен горцев, рассказов он знал о расправах, которые когда-то чинились царским воинством в родных горах. Но почему такое же сделали с единоверцами? Из рассказов отца он знал, что матросы служат в Черноморской флотилии, обучаются правилам ведения морского боя, что они проходят определённый срок службы и возвращаются по домам. А эти, что погибли сегодня, никогда не вернутся…
– Джавадхан, пойдём!
Мальчик вздрогнул, оглянулся. Манаф направился к городу. Джавадхан, спрыгнув с парапета, поспешил за братом. Шли молча. Когда свернули на Банную улицу и стали подходить к дому, брат спросил:
– Скажи, за что расстреляли матросов?
Манаф строго сдвинул брови, глянул на Джавад-хана:
– Мал ты ещё, многое не поймёшь, а если сказать коротко, за то, что против царских порядков и его генералов бунт устроили.
Братья подошли к дому. Абакар, старый севастопольский портовый лудильщик, с беспокойством ждал возвращения сыновей. Когда они вошли, спросил:
– Где это вы полдня слонялись? Нет работы в порту, значит, надо было вернуться и поработать дома.
– Легко сказать поработать, когда там людей расстреливали, – буркнул Манаф.
– Сын мой, – сказал старик, – Россия воюет с Германией, царь – владелец страны, и он вправе расправляться с теми, кто не подчиняется его власти. А нам до этого не должно быть дела. Наше дело возносить хвалу Аллаху за то, что Он даёт нам возможность заработать на кусок хлеба и отложить на чёрный день копейку.
– Ты не прав, отец. Разве те несчастные, что сегодня отдали души Аллаху, действовали во имя собственной цели?
Манаф глядел на отца, ожидая ответа. Старик, помолчав немного, сказал:
– Запомните, сыны мои, где власть и казна – там сила.
– Не всегда, – ответил Манаф. – Без народной силы ни один правитель не будет иметь успеха.
– Нехороший пример показываешь младшему брату, возражая отцу.
Абакар сел за скатерть, разостланную на полу младшим сыном, и, как положено, первым взялся за ложку, принимаясь за еду. После обеда старик почитал Коран и, как обычно, отправился к мечети на годекан. Расположена она была недалеко от дома на Казачьей улице.
Манаф пошёл в мастерскую и принялся за починку примусов. Джавадхан помогал брату.
– Джавад, а что бы ты сделал, если бы надо мной учинили такую расправу, как сегодня с матросами? – спросил Манаф.
– Не дай Аллах! – воскликнул мальчик. – Зачем говоришь такое?
– Хочу знать.
Джавад ответил:
– Когда увозили меня из дому, ты сказал маме: не плачь! Если мальчик на локоть выше кинжала – он мужчина. Зачем же спрашивать? Ты сам знаешь, что мужчины в таком случае мстят.
– Молодец! А скажи ещё, какое оружие, по-твоему, самое мощное?
Джавад, подумав немного, ответил:
– Пушка.
– Нет.
– Тогда пулемёт.
– А что же? – в недоумении спросил мальчик.
– Язык.
Джавад сделал удивлённые глаза.
– Да, да. Язык может наделать такой беды, что ни с каким оружием не сравнить, а потому его нужно уметь держать за зубами.
– Что ты этим хочешь сказать, брат?
– Конечно, не то, что ты чрезмерно болтлив. Бывает болтовня безобидная, доставляющая удовольствие, как, например, хабары нашего хозяина. Но есть важные дела, которые требуют могильного молчания, основанного на большом мужестве.
Джавад вопросительно глянул на брата.
Манаф неторопливо пояснил:
– Я хочу сделать из тебя надёжного помощника в деле, о котором должны знать только трое – ты, я и Аллах.
– У тебя нет оснований сомневаться во мне. Я не раз брал на душу грех, говоря отцу неправду, когда ты исчезал на весь день, оставляя меня одного в порту.
– Да, в тебе я не сомневаюсь. Послушай, ты запомнил лицо человека, который сегодня стоял и переглядывался со мной на набережной?
– Того, что в очках?
– Да.
– Запомнил.
– Так вот, живёт он на Нахимовской улице, завтра покажу тебе его дом. Когда потребуется, буду посылать тебя к нему. Но ты не подходи сразу к дому. Иди, заглядывая во дворы, с корзиной за плечами и покрикивай: «Чиним! Паяем!» В определённый час, когда откроешь калитку указанного дома и крикнешь: «Чиним, паяем!», с улицы, из парадной двери выглянет человек в пенсне, спросит тебя: «Мальчик, ты можешь запаять лампу?» Ты ответишь: «Да» – и пойдёшь за ним. Обувь сними у порога. В комнату не входи, оставайся в прихожей. То, что он тебе даст, спрячешь под двойным дном корзины и принесёшь домой. Повторяю, никто не должен об этом знать, даже отец. В противном случае… – Манаф сделал жест, обведя рукой вокруг шеи, что означало вздёрнуть на виселице.
Лудильщик Абакар Чанхиев, как многие малоземельные лакцы, да и другие горцы Дагестана, ещё в годы отрочества стал заниматься отхожим промыслом. Сначала в небольшом городке Темир-Хан-Шуре он открыл лудильную мастерскую. Весной, ко времени полевых работ, он возвращался в родной аул Хуты, чтобы помочь семье. Осенью, после уборки урожая, вновь уходил в город.
Когда его первенцу Манафу исполнилось десять лет, он увёз его из аула для обучения своему ремеслу.
В Шуре, рядом с лудильной мастерской Абакара, работал жестянщик Гаджи-Магома с сыном-подростком, которого звали Абдулла. Это были аварцы из аула Дусрах. Взаимоотношения отцов и сыновей сложились как у добрых соседей.
В этом городке таких мастеровых, как Абакар и Гаджи-Магома, было немало. Поэтому для всех не хватало заказов. Вот и решил Абакар отправиться на заработки в Россию. Кто-то из кунаков посоветовал ему поискать счастья в Севастополе, где всегда бывала нужда в портовых рабочих. Вначале он поехал один, обосновался, а через год увёз туда и сыновей. Здесь, в порту, в доке, имели они постоянную работу. Поселились на Корабельной стороне. Абакар и Манаф работали сдельно, по нарядам производили полуду котлов, кухонной посуды на кораблях всех видов. Они имели доступ и на военные крейсеры.
Поскольку работы постоянной в порту не было, Абакар решил устроиться поближе к севастопольскому базару. На Банной улице снял полуподвальное помещение с выходом на улицу. Разделил его на две половины фанерой. В первой половине устроил лудильную мастерскую, во второй, окнами во двор, – жилую комнату. Вместо вывески выставил на улицу старый медный самовар, привязав его на всякий случай проволокой к дверной ручке. Когда с возрастом Абакар стал прибаливать, то большей частью работал в городской мастерской. Хозяин дома, в котором поселились лудильщики, бывший боцман, был человеком покладистым, добрым. Единственным его недостатком было то, что он изрядно выпивал. Звали его Спиридоном Мартыновичем. После смерти жены жил один. Единственная дочь с зятем и внуком жила в том же доме, но отдельно.
Спиридон Мартынович с уважением относился к тихому, трудолюбивому квартиранту-горцу. Он часто, особенно вечером, заглядывал к нему. В первое время заходил с чекушкой, уговаривая Абакара попробовать водочки. Но Абакар был неумолим:
– Испасибо, Спиридон, испасибо! Мой чай давай. Мусульман шайтан-воду не пиют!
– Эх, старина, не понимаешь ты силы и вкуса этого напитка! Ладно, раздавлю сам.
– Вай, Спиридон, хороший человек, только дурной вода кушаешь, – покачивая головой, сокрушался горец.
Спиридон Мартынович, старый моряк, имел немало царских наград, но ими не хвастался. Мало говорил о себе, зато о нём всё знали соседи, говорили хорошее.
Старый боцман поднимался рано. Натянув фуражку с кокардой, широкоплечий, приземистый, он, кряхтя, направлялся к Малахову кургану. Ещё в годы юности его, задорного юнгу, водили туда в пивное заведение Малахова. А в Крымскую войну, когда героический Севастополь стал насмерть против флотилии трёх держав – французской, английской и турецкой – и весь год успешно отражал атаки врагов, Спиридон Мартынович был среди малаховцев. Этот курган – главное оборонительное сооружение. О его неприступности, отчаянной храбрости защитников даже чужеземцы слагали легенды.
Часто Спиридон Мартынович поднимался на знаменитый курган, особенно когда ушёл в отставку. Взберётся на самую вершину и застынет, как изваянный из бронзы, глядя на изрезанный бухтами город, на море. Только поредевшие белые волосы волнуются под ветром. Долго так стоит, словно в почётном карауле – в честь тех, кто лёг здесь, умножая славу России-матушки. Но постепенно, отяжелённая мыслями, его голова клонится, устало опускаются тяжёлые плечи. Медленно натягивает он фуражку на лоб и не спеша спускается с кургана. Согбенный, с задумчивыми глазами, бредёт Спиридон Мартынович к ближайшему кабаку, садится и пьёт. В долг ему нальёт любой владелец кабака. Если хозяин не возвращался домой к вечеру, Абакар отправлял Манафа на поиски:
– Иди, сын мой, грешно оставлять человека, когда нечистый отнимает у него и волю, и разум.
Манаф знал, где надо искать Спиридона Мартыновича. Иногда волоком притаскивал его домой, укладывал в постель. Утром, протрезвившись, Спиридон Мартынович говорил соседям, показывая на двери мастерской: «Хоть и басурманы, а душа христианская. Я готов их бесплатно держать в доме, а они день в день, как договорились, платят».
В холодные зимние вечера Спиридон Мартынович часто заходил к лудильщикам. Сидя на полу, со скрещенными по-турецки ногами, он предавался воспоминаниям. Горцы с увлечением слушали рассказы старого боцмана – о дальних странствиях, о единоборстве людей с водной стихией, о храбрых сражениях моряков. Манаф был благодарен хозяину не столько за увлекательные хабары, сколько за то, что тот обучил его чтению и письму по-русски. Прежде Манаф умел писать и читать только по-арабски.
– Что такое арабский? Где Аравия, где Кавказ, где ты? Учись русской грамоте, это тебе больше пригодится, – любил повторять старый моряк.
Манаф оказался способным учеником. За «прилежание и успехи» Спиридон Мартынович подарил ему букварь.
Когда началась война, Гаджи-Магома с Абдуллой вернулись в Дагестан. Хотел последовать их примеру и Абакар с сыновьями, но Спиридон Мартынович рассоветовал:
– Зачем тебе ехать в аул? Сам говоришь, земли горсточка, заработать негде. Оставайся, германца не бойся, не отдадим ему Россию! Турок хоть и заглянет на денёк, так он тебе что брат родной.
– Нет, нет, турок не надо, герман не надо, – отвечал, качая головой, Абакар.
– Вот и хорошо. Не надо, значит, не пустим.
С нетерпением ждал Джавадхан ответственного поручения. Наконец в один из воскресных дней Манаф сказал ему:
– После обеда пойдёшь на Нахимовскую.
Джавад продел в ручки корзины кизиловую палку, перекинул её через плечо, вышел из дому. Шёл по Нахимовской не торопясь, заглядывая во дворы, выкрикивая: «Чиним! Паяем!» – и особо не задерживаясь. Подойдя к калитке нужного дома, искоса поглядывая на парадную дверь с улицы, он дважды прокричал: «Чиним! Паяем!»
Дверь распахнулась. Появился человек в пенсне:
– Мальчик, сможешь запаять лампу?
– Да, – ответил Джавад, направляясь к двери.
– Заходи.
Джавад вошёл, не забыв сбросить башмаки у порога. Покрытые масляной краской полы блестели, как начищенный медный таз. Посредине комнаты стоял круглый стол, покрытый белоснежной скатертью. На столе хрустальная чаша с конфетами. Взяв полную горсть конфет, человек в пенсне протянул их мальчику
– Испасиба! Испасиба! Моя не хочет.
– Да что там не хочешь, бери, ешь. – Человек в пенсне, положив конфеты на колени мальчику скрылся за дверью, которая вела во вторую комнату.
Джавадхан, широко раскрыв рот, с удивлением разглядывал ковёр, спущенный со стены на тахту, буфет, за стёклами которого сияла всеми цветами радуги посуда, камин с цветным кафелем. Никогда не приходилось ему видеть такое богатство. Кто он, этот человек? Какие дела у него могут быть с полунищим братом Джавада? Должно быть, это один из севастопольских князей. Не зря ведь предупредил Манаф, что надо снять обувь у порога. С чувством жалости к себе посмотрел он на свою залатанную рубашку и обтрёпанные штаны. Не напрасно, подумал он, на улице шарахаются от него разряженные в шёлк и кружева русские барыни.
Вновь вошёл хозяин. Джавад взял из его рук два бумажных пакета. Вытащив из корзины примус, паяльник, нашатырь, бутылку с кислотой, тряпки, он аккуратно уложил пакеты между двойным дном корзины.
Когда мальчик поднял с пола корзину, человек в пенсне спросил:
– Как тебя зовут?
– Джавадхан.
– Ого, Джавад, да ещё хан.
– Хан нет, Джавад есть, – возразил мальчик.
– Ну как же, и хан есть, и Джавад есть, – стал подшучивать хозяин.
Хитро сощурив глаз, погрозив смуглым пальцем, Джавад ответил:
– Ты сам хан. Тебе дом большой, крепкий, деньга много. – И, помолчав, добавил: – Моя бедный человек.
– Вот тебе, бедный человек, двугривенный на мороженое, – сказал хозяин и протянув монету.
Мальчик стал отказываться:
– Работа нет, деньга не надо.
– Бери, есть работа. – Хозяин дома сунул двугривенный в оттопыренный от конфет карман мальчика.
Подойдя к двери, Джавад обернулся, смущённо спросил:
– Слюшай, как тебя звать?
– Товарищ Олег, – с улыбкой ответил хозяин.
– До свидания, товарищ Олег.
– Желаю успеха, товарищ Джавадхан.
Вечерело… Манаф ожидал брата, стоя у порога мастерской.
– Всё благополучно? – спросил Манаф, увидев Джавада.
– Слава Аллаху, – ответил мальчик.
Войдя вслед за Джавадом в дом, Манаф плотно прикрыл дверь. Мальчик поставил корзину на пол, не спеша вынул из кармана конфеты, сверху положил монету.
– Это тоже он дал. Не брал, отказывался, насильно заставил взять.
– Поблагодарил?
– Конечно. Сказал «большой испасибо». И обувь снял у порога. Всё у него рассмотрел. Наверное, он князь.
– Никакой он не князь, просто инженер, – пояснил Манаф.
– А что значит инженер?
– Не знаю, но что-то подобное учёному человеку.
– Он сказал, что его зовут товарищ Олег.
– А ты что, спрашивал?
– Да, но только после того, как он спросил моё имя и стал шутить, называя меня ханом.
– Ну и говорун же ты. Раздуй лучше угли в горне да принеси горсть муки.
Манаф взял консервную банку, налил в неё воды, вскипятил на углях, затем стал сыпать муку, помешивая деревянной палочкой.







