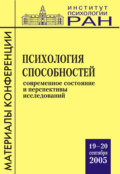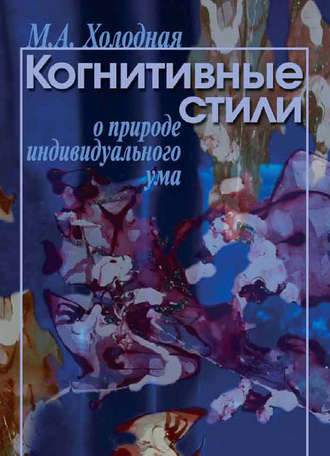
Марина Александровна Холодная
Когнитивные стили. О природе индивидуального ума
1.3. Отличительные признаки когнитивных стилей
Итак, когнитивные стили – это индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. В свою очередь, эти индивидуальные различия образуют некоторые типичные формы когнитивного реагирования, относительно которых группы людей являются похожими и отличаются друг от друга (Clauss,1978). Таким образом, понятие когнитивного стиля используется с тем, чтобы обозначить, с одной стороны, индивидуальные различия в процессах переработки информации и, с другой, типы людей в зависимости от особенностей организации их когнитивной сферы.
С самого начала статус феноменологии когнитивных стилей определялся с учетом ряда принципиальных моментов: 1) индивидуальные различия интеллектуальной деятельности, обозначенные как когнитивные стили, отграничивались от индивидуальных различий в степени успешности интеллектуальной деятельности, выявляемых на основе психометрических тестов интеллекта (в виде IQ-различий); 2) когнитивные стили, будучи характеристикой познавательной сферы, в то же время рассматривались как проявление личностной организации в целом, поскольку индивидуализированные способы переработки информации оказывались тесно связанными с потребностями, мотивами, аффектами и т. д.; 3) когнитивные стили оценивались, по сравнению с индивидуальными особенностями традиционно описываемых познавательных процессов, в качестве формы интеллектуальной активности более высокого порядка, поскольку основная их функция заключалась уже не столько в получении и обработке информации о внешних воздействиях, сколько в координации и регулировании базовых познавательных процессов; 4) когнитивные стили трактовались как посредники между субъектом и действительностью, оказывающие прямое влияние на особенности протекания индивидуальных адаптационных процессов.
Изначальная многозначность термина «когнитивный стиль» обнаружила себя в разнообразии тех явлений, которые подводились под это понятие. В частности, под когнитивным стилем понимались: устойчивые различия в когнитивной организации и когнитивном функционировании (Ausubel, 1968); индивидуальные особенности познавательных процессов, устойчиво проявляющиеся в различных ситуациях при решении разных задач (Соловьев, 1977); предпочитаемый способ анализа и структурирования своего окружения (Witkin et al., 1974); комплекс когнитивных контролирующих принципов, обеспечивающих возможность реалистически-адаптивных форм познавательного отражения на основе регуляции аффективных состояний (Gardner et al., 1959); профиль умственных способностей (Broverman, 1960); стабильные черты высшего порядка, предопределяющие способ взаимосвязи когнитивных способностей и аффективных свойств в актах индивидуального поведения (Wardell, Royce, 1978) и т. д.
У различных определений когнитивного стиля тем не менее имеется некоторый общий знаменатель, связанный с фиксацией ряда отличительных признаков этого психического качества:
1) когнитивный стиль – это структурная характеристика познавательной сферы, свидетельствующая об особенностях ее организации и не имеющая прямого отношения к особенностям ее содержания;
2) когнитивный стиль – это индивидуально-своеобразные способы получения того или иного когнитивного продукта, т. е. инструментальная характеристика интеллектуальной деятельности, которая может быть противопоставлена ее продуктивной характеристике;
3) когнитивный стиль, в отличие от традиционных униполярных психологических измерений, – это биполярное измерение, в рамках которого каждый когнитивный стиль описывается за счет обращения к двум крайним формам интеллектуального поведения (в виде полезависимости/поленезависимости, импульсивности/рефлективности и т. д.);
4) к когнитивным стилям не применимы оценочные суждения, так как представители того или другого полюса каждого когнитивного стиля имеют определенные преимущества в тех ситуациях, где их индивидуальные познавательные качества способствуют эффективной индивидуальной адаптации;
5) когнитивный стиль – это устойчивая характеристика субъекта, стабильно проявляющаяся на разных уровнях интеллектуального функционирования и в разных ситуациях;
6) когнитивный стиль – это предпочтение определенного способа интеллектуального поведения (т. е. субъект в принципе может выбрать любой способ переработки информации, однако он непроизвольно или произвольно предпочитает какой-либо определенный способ восприятия и анализа происходящего, в наибольшей мере соответствующий его психологическим возможностям).
По сути дела, в этой области психологического знания произошла радикальная смена ряда позиций в понимании природы индивидуальных интеллектуальных различий. Были пересмотрены критерии оценки интеллектуальных возможностей человека. Те, кто получал низкие оценки при решении стандартных тестовых задач, в теориях интеллектуальных способностей (интеллекта) признавались интеллектуально несостоятельными. В теориях когнитивных стилей, напротив, утверждалось, что любой показатель степени проявления любого когнитивного стиля – это «хороший» результат, так как мера выраженности того или иного стилевого полюса характеризует эффективность интеллектуальной адаптации данного человека к требованиям объективной действительности. Иными словами, пафос когнитивно-стилевого подхода заключался в попытке ввести безоценочный взгляд на интеллектуальные возможности человека.
Особый статус стилевых характеристик интеллектуальной деятельности был связан с признанием их особой роли в регуляции индивидуального поведения, при этом стилевой подход рассматривался как один из вариантов объяснительной теории личности. Кроме того, в теории когнитивных стилей акцент смещался на проблему индивидуальности (уникальности) человеческого разума в виде признания существования у каждого человека индивидуально-своеобразных способов организации познавательного контакта с миром. В рамках стилевого подхода, по сути дела, о любом человеке можно было сказать: «Каждый умен по-своему». Наконец, в стилевых исследованиях был разработан принципиально новый методический инструментарий. Раньше изучение индивидуальных различий в интеллектуальной деятельности осуществлялось главным образом на основе метода решения задач (в первую очередь тестовых). В стилевом исследовании испытуемый не решал задач в привычном смысле слова. Ему предлагалась достаточно простая ситуация без каких-либо жестко заданных условий, требований и временных ограничений с инструкцией открытого типа, согласно которой испытуемый мог выбрать свой собственный, наиболее удобный и естественный вариант ответа (разложить предметы на группы по своему желанию, высказать свое мнение о заданной ситуации, принимать решение в своем естественном временном темпе и т. д.). В стилевом исследовании отсутствовали нормативы оценки индивидуального результата. Отнесение испытуемого к одному из двух полюсов определенного когнитивного стиля осуществлялась на основе такого критерия, как медиана (на горизонтальной оси все индивидуальные показатели слева от медианы идентифицировались как один полюс данного когнитивного стиля, справа – как другой его полюс).
Иными словами, если в традиционном исследовании индивидуальных интеллектуальных различий испытуемый заведомо превращался в некий объект, которым достаточно жестко манипулировали извне, то в стилевом исследовании испытуемый выступал в качестве субъекта, имевшего возможность продемонстрировать присущие ему способы восприятия, анализа и интерпретации экспериментальной ситуации.
Наряду с несомненными достоинствами методики диагностики когнитивных стилей имели один весьма существенный недостаток. В отличие от традиционных психометрических тестов интеллекта в стилевых методиках, как уже отмечалось, отсутствовали нормы. Использование же медианного критерия приводило к серьезному методическому противоречию: разнесение испытуемых данной выборки на горизонтальной шкале по полюсам соответствующего когнитивного стиля (полезависимости/поленезависимости, импульсивности/рефлективности, толерантности/нетолерантности к нереалистическому опыту и т. п.) в значительной мере теряло смысл, поскольку испытуемые обладали такими стилевыми свойствами только в пределах своей выборки.
Возьмем, например, условную ситуацию диагностики когнитивного стиля «полезависимость/поленезависимость» с помощью методики Уиткина «Включенные фигуры» (показатель: время нахождения простой фигуры в сложной)[2] трех групп испытуемых: выпускников сельских школ (группа 1), студентов столичного университета (группа 2) и участников подготовки к космическим полетам (группа 3). Если обработать результаты выполнения испытуемыми методики «Включенные фигуры» по каждой группе отдельно, то с помощью медианного критерия (Me) выделяются как поленезависимые лица, быстро находящие простую фигуру в сложной (ПНЗ), так и полезависимые лица, медленно находящие простую фигуру в сложной (ПЗ).

Однако по своему смыслу интерпретация представителей этих трех групп как полезависимых либо поленезависимых будет совершенно другой, если мы, объединив все группы, примем во внимание исходное количественное значение показателей данного когнитивного стиля.

Как можно предположить, по показателям времени выполнения теста «Включенные фигуры» (скорости нахождения простой фигуры в сложной) основная часть выпускников сельских школ окажется на полюсе полезависимости, участников подготовки к космическим полетам – на полюсе поленезависимости, тогда как студенты столичного университета, по-видимому, будут располагаться в пределах медианы общей выборки.
Принимая во внимание подобного рода методические проблемы, Г. Клаусс счел возможным высказать предположение, что стилевые методики не предназначены для цели постановки индивидуального диагноза, но, скорее, могут использоваться для образования экспериментальных групп при изучении психологических механизмов индивидуальных различий интеллектуальной деятельности (Clauss, 1978).
Тем не менее следует признать, что в рамках проблематики когнитивных стилей, пожалуй, впервые была заявлена возможность перехода от униполярных психологических измерений к биполярным и соответственно от уровневых критериев (низкие – высокие показатели) к типологическим (показатели одного типа – показатели другого типа) в оценке индивидуальных интеллектуальных возможностей. Наконец, можно говорить об изменении самой схемы диагностического исследования. Если в традиционной психодиагностике индивидуальный результат оценивался по принципу «сравнение с другими» либо по принципу «сравнение с нормативом исполнения», то в стилевом исследовании предлагалась новая методическая позиция: «сравнение испытуемого с самим собой».
Со временем, однако, оптимизм представителей стилевого подхода (как в зарубежной, так и отечественной психологии) заметно поубавился, поскольку по мере накопления эмпирических данных пришлось столкнуться с целым рядом противоречий. Чтобы разобраться в характере этих противоречий, нам придется детально ознакомиться с методиками диагностики когнитивных стилей и конкретными фактами из области стилевых исследований. Ибо, повторюсь, понять природу когнитивных стилей и оценить перспективы стилевого подхода можно только на основе тщательного и последовательного ретроспективного анализа научно-литературных первоисточников и основных форм стилевой феноменологии.
Глава 2
Психологическая характеристика основных когнитивных стилей
В современной зарубежной и отечественной литературе можно встретить описание около двух десятков различных когнитивных стилей. Прежде всего остановимся на описании тех когнитивных стилей, которые составляют основу феноменологии стилевого подхода. К их числу относятся:
1. Полезависимость/поленезависимость.
2. Узкий/широкий диапазон эквивалентности.
3. Широта категории.
4. Ригидный/гибкий познавательный контроль.
5. Толерантность к нереалистическому опыту.
6. Фокусирующий/сканирующий контроль.
7. Сглаживание/заострение.
8. Импульсивность/рефлективность.
9. Конкретная/абстрактная концептуализация.
10. Когнитивная простота/сложность.
Наша задача – воспроизвести проблематику когнитивных стилей в ее исходных теоретических и эмпирических основаниях. Назначение этой главы – описать методики диагностики различных когнитивных стилей в том виде, как они были первоначально заявлены, а также изложить эмпирические результаты, накопленные в условиях их применения. На данном этапе анализа проблемы постараемся воздержаться от интерпретаций и комментариев с тем, чтобы не помешать выстраиванию представления о так называемом «объективном положении дел» с позиции стороннего наблюдателя. Конечно, по ходу знакомства с этими материалами будут возникать определенные вопросы. Но пусть они накапливаются постепенно, и тогда у читателя появится возможность не только почувствовать остроту современной ситуации в психологии когнитивных стилей, но и понять исходные причины растущих разногласий и противоречий.
2.1. Полезависимость/поленезависимость
Популярность идей Генри Уиткина все последние десятилетия была удивительно велика, при этом количество исследований полезависимости/поленезависимости (ПЗ/ПНЗ) исчислялось тысячами. Тем больший интерес представляет анализ эволюции представлений о природе этого когнитивного стиля.
Г. Уиткина интересовали особенности поведения в поле, в частности такие эффекты, как «фигура – фон» и «часть – целое». Впервые этот стилевой параметр был описан Уиткином в связи с изучением индивидуальных различий в пространственной ориентации, когда от испытуемого требовалось провести некоторые манипуляции с объектом под влиянием пространственного контекста (Witkin, Asch, 1948; Witkin, 1949). Чуть позже были описаны индивидуальные различия в перцептивной деятельности при решении задачи обнаружения простой детали в сложном геометрическом изображении (Witkin, 1950).
В ходе экспериментов выяснилось, что одни испытуемые полагаются на внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние, им требуется много времени, чтобы «увидеть» нужную деталь в сложном изображении (это явление получило название полезависимости). Другие испытуемые, напротив, склонны контролировать влияние зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые внутренние критерии (в частности, собственный проприоцептивный опыт), легко преодолевают влияние видимого поля, быстро находят деталь в сложном изображении (это явление получило название поленезависимости).
Методики диагностики полезависимости/поленезависимости
1. Методика «Стержень – рамка» (Witkin, Asch, 1948), являющаяся разновидностью тестов пространственной ориентации. Испытуемый, помещенный в полностью затемненную комнату, видит перед собой светящуюся рамку и находящийся в ней светящийся стержень. Экспериментатор находится в другой комнате и по определенной программе изменяет положение рамки и стержня. Испытуемый с помощью пульта должен привести стержень в вертикальное положение по отношению к поверхности земли. Выяснилось, что испытуемые различаются по способу пространственной ориентации при оценке степени вертикальности стержня. Одни используют зрительные впечатления, ориентируясь на положение рамки (эти испытуемые делают больше ошибок, поскольку сама рамка отклонена от вертикали). Другие опираются на проприоцептивные впечатления, ориентируясь на положение собственного тела (эти испытуемые с большей точностью приводили стержень в вертикальное положение).
Показатель ПЗ/ПНЗ: величина отклонений стержня от истинной вертикали при приведении его в вертикальное положение на протяжении серии замеров (чем меньше этот показатель, тем в большей мере выражен ПНЗ стиль).
2. Методика «Регулирование положения тела» (Witkin, 1949), также относящаяся к тестам пространственной ориентации. Испытуемый сидит на стуле в маленькой освещенной комнате. В трех сериях из шести стены комнаты и стул наклонены в одну сторону, в трех других – в противоположные стороны (исходное отклонение стен комнаты составляет 35°, стула – 22°). Стены комнаты остаются наклонными, при этом испытуемый должен привести стул в вертикальное, согласно его субъективному представлению, положение (т. е. поставить его перпендикулярно поверхности земли). Одни испытуемые при выполнении этого задания полагались на ощущение собственного тела (и тогда их действия были более точными), тогда как другие – на образ наклоненных стен комнаты (и тогда они хуже справлялись с выравниванием положения стула).
Показатель ПЗ/ПНЗ: величина ошибки в степени отклонения стула от истинной вертикали. Сырыми оценками являлись средние абсолютные ошибки в степени отклонения от истинной вертикали, затем сырые оценки по каждой серии переводились в стандартные оценки. Положительный индекс (сумма результатов по двум сериям) отражает полезависимый стиль, отрицательный – поленезависимый.
3. Методика «Включенные фигуры» (Witkin, Oltman, Raskin, Karp, 1971), представляющая разновидность перцептивных тестов. Данная методика существует в разных модификациях. Суть последних сводится к тому, что испытуемый должен найти простую фигуру внутри сложной геометрической фигуры. Быстрое и правильное обнаружение простой фигуры (детали) характеризует поленезависимость, медленное и ошибочное – полезависимость. Таким образом, оценивается степень, в которой индивидуальная перцепция находится под влиянием видимого поля.
Индивидуальный вариант методики «Включенные фигуры», предложенный Уиткином, построен на основе аналогичной методики К. Готтшальдта (1926). Методика Готтшальдта, предназначенная для изучения эффекта «часть – целое», состоит из 30 листов-бланков. На каждом листе-бланке располагаются простая геометрическая фигура и сложная геометрическая фигура, в которой содержится в качестве ее части простая фигура. Сначала испытуемому демонстрируется простая фигура на 10 с (сложная фигура на это время закрывается плотным листом белой бумаги). Затем открывается сложная фигура, при этом лист бумаги перекладывается на простую фигуру, закрывая ее. С момента предъявления сложной фигуры включается секундомер, который останавливается, когда испытуемый говорит, что он видит простую фигуру. Показатели ПЗ/ПНЗ: 1) общее время выполнения всех 30-ти заданий (в мин); 2) количество правильных ответов; 3) продуктивность как отношение количества правильных ответов к времени выполнения теста. Чем больше показатели 2 и 3 и меньше показатель 1, тем более выражена поленезависимость (см. Приложение 1).
При разработке методики Уиткина «Включенные фигуры» часть черно-белых фигур, взятых из методики Готтшальдта, были усложнены, к ним добавлены другие фигуры, при этом все сложные фигуры были представлены в цвете. Испытуемому последовательно предлагаются 24 сложные фигуры (форма А – 12 фигур; форма В – 12 фигур). К каждой сложной фигуре предъявляется одна из 8 простых фигур, которая содержится в предъявленной сложной фигуре в качестве ее части. Сначала на 15 с предъявляется карточка со сложной фигурой, затем на нее на 10 с накладывается карточка с простой фигурой, после чего простая фигура убирается из поля зрения испытуемого (испытуемый не должен видеть сложную и простую фигуры одновременно). Задача испытуемого – найти и обвести указкой простую фигуру в сложной. Показатель ПЗ/ПНЗ: средняя величина времени обнаружения простой фигуры в сложной (см. Приложение 2).
Групповой вариант методики «Включенные фигуры» состоит из одной тренировочной серии (на нее отводится 3 мин) и двух основных серий, на каждую из которых отводится по 5 мин. Испытуемый должен найти в сложной фигуре простую и выделить ее карандашом. Показатель ПЗ/ПНЗ: количество правильных ответов (максимально возможный показатель по двум сериям – 18 правильных ответов).
Разновидностью методики «Включенные фигуры» является групповая методика АКТ-70 К. У. Эттриха (см.: Шкуратова, 1983). Испытуемому в верхней части листа предъявляются 5 простых фигур, в нижней – сложные фигуры (по 15 на каждом из двух листов). Испытуемый должен найти и указать в протоколе для каждой сложной фигуры ту простую фигуру, которая включена в нее в качестве составной части. Показатели ПЗ/ ПНЗ: 1) общее время выполнения всего задания; 2) количество правильных ответов; 3) продуктивность, определяемая как частное от деления количества правильных ответов на время.
Характерная деталь: методика К. У. Эттриха АКТ-70, разработанная им на основе фигур методики Готтшальдта, рассматривалась автором как «тест на общую креативность» (цит. по: Клаус, 1987, с. 95). Добавлю, что методика АКТ-70 (как и методика «Включенные фигуры») по смыслу и форме аналогична известному тесту «Спрятанные фигуры» (Л. Терстоун), который характеризует фактор «Гибкость завершения гештальта». По результатам факторного анализа показатели выполнения этого теста попадают в фактор «конвергентная продуктивность визуальных трансформаций», в терминах теории интеллекта Гилфорда (Sullivan et al., 1965). Иными словами, то психическое качество, которое измеряет методика Уиткина «Включенные фигуры», в других исследованиях изначально рассматривалось как интеллектуальная способность.
Уже в первых исследованиях было засвидетельствовано, что показатели выполнения методик «Стержень – рамка», «Регулирование положения тела» и «Включенные фигуры» на уровне корреляционного анализа оказались тесно связанными между собой. На этом основании Уиткин счел возможным определить ПЗ/ПНЗ как «структурирующую способность в восприятии». Впоследствии выяснилось, что при факторизации результатов выполнения тестов пространственной ориентации и перцептивного теста, диагностирующих ПЗ/ПНЗ, образуется единый фактор вместе с субтестами «Кубики», «Сложение фигур» и «Недостающие детали» шкалы Векслера. Эти данные, по мнению Уиткина, свидетельствовали о существовании общего когнитивного стиля, который получил название аналитический подход к полю (или аналитические способности).
Дальнейшие исследования показали, что ПЗ/ПНЗ, измеренная с помощью методики «Включенные фигуры» (именно эта методическая процедура в силу своей простоты применялась в подавляющем большинстве случаев), связана с целым рядом других особенностей интеллектуальной деятельности: фактором «гибкость прекращения действия гештальта» по Терстоуну (задания на поиск простых деталей в ряду сложных геометрических фигур); фактором «адаптивная гибкость» по Гилфорду (задания на проверку сообразительности, в которых испытуемый должен преодолеть заданный семантический или физический контекст и обнаружить некоторый новый принцип его организации; поиск знакомых предметов, которые включены в сложную сцену, например, «спрятаны» среди деревьев); успешностью решения задач Дункера на «функциональную фиксированность» (задания, требующие использовать знакомый предмет новым, неожиданным способом); наличием эффектов сохранения в задачах Пиаже; успешностью преодоления установки в серии задач Лачинса (задания, проверяющие способность изменять усвоенный способ решения при изменении условий задачи); склонностью давать структурированные ответы при работе с пятнами Роршаха (Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, Karp, 1974).
Смысл этих связей, как полагал Уиткин, был достаточно ясен: все указанные психологические измерения (включая ПЗ/ПНЗ) в той или иной мере включали «способность преодолевать сложноорганизованный контекст». Соответственно если индивидуум обнаруживает способность разделять поле на элементы, организовывать и реструктурировать ситуацию – значит он демонстрирует артикулированнный подход к полю. Если, напротив, индивидуум следует полю как данному без каких-либо серьезных попыток его реорганизации – значит он использует глобальный подход к полю.
Продолжение исследований с использованием методики «Включенные фигуры» показало, что артикулированный когнитивный стиль в сфере интеллектуальной деятельности связан с дифференцированностью образа физического «Я», развитым чувством личной идентичности и сформированностью специализированных защит и контролей. Факты, полученные в области изучения этих четырех психологических сфер, позволили Уиткину говорить о существовании еще более широкого измерения – уровня психологической дифференциации, характеризующего степень артикулированности (ясности, расчлененности, отчетливости) опыта субъекта.
Наконец, в более поздних работах Уиткин сделал акцент на характере направленности субъекта: либо на внешние факторы (тенденция быть полезависимым), либо на внутренние факторы (тенденция быть поленезависимым). Именно в рамках этой дихотомии – склонности ориентироваться на поле, либо на самого себя – и стало использоваться понятие «когнитивный стиль» (Witkin, Goodenough, Oltman, 1979).
Таким образом, ПЗ/ПНЗ в узком значении слова – это способность вычленять простую деталь в сложной фигуре, тогда как в широком значении слова – это показатель уровня психологической дифференциации (и соответственно характера познавательной направленности субъекта).
Нельзя не обратить внимание на существенную разницу в логике теоретических обобщений и логике эмпирических доказательств при построении теории психологической дифференциации. Так, с теоретической точки зрения показатели полезависимости/поленезависимости, определяемые в терминах результатов выполнения методики «Включенные фигуры», рассматривались как частная форма проявления уровня психологической дифференциации в рамках перцептивной деятельности.
Однако при анализе результатов эмпирических исследований, рассматривавшихся в качестве доказательства дифференциальной гипотезы (и теории психологической дифференциации в целом), отправной точкой выступали именно корреляционные связи показателя выполнения индивидуальной или групповой форм методики «Включенные фигуры» (реже – показателя методики «Стержень – рамка») с переменными, характеризующими четыре психологические сферы (см. рис. 1). Заметим, что по своему прямому смыслу индивидуальные различия в выполнении методики «Включенные фигуры» – это различия в достаточно частной когнитивной характеристике (способности выделять в перцептивном образе отдельные детали). Тем не менее этот параметр по мере разработки теории психологической дифференциации получил, как мы видим, некоторую универсальную интерпретацию.
В итоге возникает принципиальная неясность: либо скорость нахождения простой фигуры в сложной является частным проявлением уровня психологической дифференциации опыта субъекта, либо, напротив, механизмы, лежащие в основе этого перцептивного действия, являются базовыми по отношению к множеству интеллектуальных и личностных переменных.
Со временем накапливались эмпирические данные, свидетельствовавшие о том, что показатели ПЗ/ПНЗ имеют отношение к гораздо более широкому спектру проявлений интеллектуальной и личностной активности, нежели это первоначально предполагалось.
При изучении связей ПЗ/ПНЗ с константностью восприятия исходная гипотеза Уиткина о том, что ПНЗ лица должны в бо́льшей мере обнаруживать аконстантность восприятия в силу своей склонности воспринимать объект аналитически, независимо от контекста (в данном случае – изменяющегося расстояния), не подтвердилась. Ясность в этот вопрос внесли исследования с использованием искусственной инструкции. Так, если испытуемым заранее объяснялись различия между реальным и видимым размером объекта в условиях изменения расстояния, а затем они поощрялись давать оценку размера воспринимаемого объекта в терминах величины ретинального образа, то обнаруживалась значимая корреляционная зависимость между точностью перцептивной оценки и результатами по методике «Включенные фигуры». В связи с этими данными Уиткин делает важный уточняющий вывод о том, что ПНЗ испытуемые могут применять как аналитический (артикулированный), так и глобальный подходы в условиях аконстантного восприятия, тогда как ПЗ испытуемые менее способны к такого рода произвольным «перемещениям» по соответствующей стилевой оси (Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, Karp, 1974).
ПЗ/ПНЗ обнаруживает свое влияние в таких сложных видах интеллектуальной деятельности, как работа с текстом. В частности, отмечается превосходство ПНЗ учащихся в условиях, когда текст требует переструктурировки и реорганизации. Если в качестве помощи для усвоения текста предлагаются вопросы умозаключающего типа, у ПНЗ учащихся показатели понимания текста улучшаются, тогда как у ПЗ – ухудшаются. Трудности ПЗ учащихся объясняются тем обстоятельством, что умозаключающие вопросы требуют действовать сверх буквального содержания текста, осуществлять гипотетико-дедуктивный подход к его смысловой перестройке, к чему лица с данным когнитивным стилем не склонны (Adejumo, 1983). Аналогично при конспектировании лекций и научных текстов ПНЗ студенты (их стилевые особенности измерялись с помощью методик АКТ-70 и Готтшальдта) подвергали текст бо́льшей переработке, сокращая количество слов, перефразируя мысли, используя средства структурирования текста в виде абзацев, подчеркивания, выделения цветом и т. д. (Абакумова, Шкуратова, 1986). Именно у ПНЗ лиц выше показатели эффективности понимания текста при его предъявлении в виде разрозненных фрагментов (Ким, 2002).
Особый интерес представляет связь рассматриваемого стилевого параметра с характеристиками обучения. По данным Уиткина и Гуднау, независимые от поля люди включаются в процесс обучения скорее как его активные участники, нежели как зрители. Поэтому, например, в эффективности обучения ПНЗ лиц ведущую роль играет внутренняя мотивация. Обучение же ПЗ лиц оказывается более успешным в ситуации внешнего отрицательного подкрепления. В целом академическая успеваемость выше у ПНЗ учащихся (школьников и студентов). У них легче происходит генерализация и перенос знаний, ярче выражена способность выбирать более рациональные стратегии запоминания и воспроизведения материала (Witkin, Moore, Goodenough, Cox, 1977).
Что касается сферы представлений о собственном теле, то показатели ПЗ/ПНЗ коррелируют со способностью четко и быстро манипулировать руками (задания воспроизвести позиции пальцев двух рук, изображенных на серии фотографий), тактильной чувствительностью (задания по различению двух точек на коже тела, опознанию «написанных» на коже букв).
Наиболее обширные данные были получены в результате изучения соотношения показателей ПЗ/ПНЗ с особенностями межличностных отношений. По мнению Уиткина и Гуднау, обобщивших большой объем экспериментальных данных, ПЗ лица, которые в целом в большей мере полагаются на внешние факторы (в ситуации общения – на других людей), оказываются вследствие этого более социально ориентированными. Так, они более чувствительны к социальным воздействиям, внимательны к социальным источникам информации, деликатны по отношению к другим людям, склонны держать более короткую физическую дистанцию в условиях реального общения. Зависимые от поля люди ждут от окружающих поддержки и помощи. Им легче отвечать на вопросы, слыша в ответ одобрительные междометия или получая оценку своих ответов. Для них характерна склонность к коллективным формам деятельности, присутствие других людей интенсифицирует их деятельность. В итоге, будучи межличностно ориентированными, ПЗ люди получают больше информации в процессе общения, легче ладят с другими людьми, легче разрешают конфликтные ситуации, реже высказывают негативное отношение к окружающим. Эти люди склонны изменять свои взгляды в направлении позиции авторитетов. Они лучше узнают тех, с кем до этого виделись лишь кратковременно; предпочитают занятия, которые предполагают контакт с людьми, популярны внутри их группы (Witkin, Goodenough, 1977).