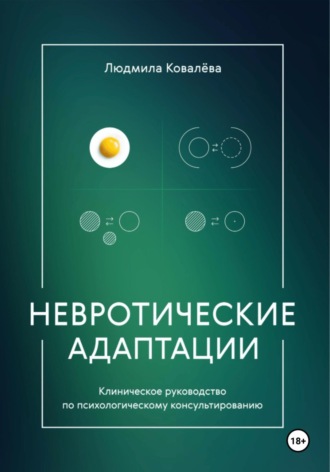
Людмила Ковалева
Невротические адаптации
1.1.12. Адаптация шизоид
Дверь-контакт – поведение.
Дверь-ловушка – чувства.
Дверь-цель – мышление.
Аутентичное чувство – страх.
Глядя на клиента во взрослом возрасте, нельзя точно сказать является ли выраженная шизоидность результатом адаптации к травме или это следствие врождённой патологии. Есть разные точки зрения. В ЭОТ мы работаем, исходя из представления, что шизоидность имела начало в раннем возрасте. Правда, понятие «ранний возраст» достаточно условное, так как проблема может начать формироваться ещё до рождения. Как бы то ни было, для этой адаптации свойственно переживание реальности, которое человек испытывает в начальный период своего развития. Для достижения ощутимых положительных изменений клиенту с шизоидной адаптацией может потребоваться около двух лет – даже с учётом того, что ЭОТ относится к быстрым методам терапевтического воздействия. В целом продолжительность работы зависит от того, насколько сильно разрушена психика. Мировой опыт говорит, что работа подобного рода занимает до шести лет.
Если шизоид пришёл на терапию и вы на первом или втором сеансе предложите ему представлять образы, как это принято в ЭОТ, он, скорее всего, откажется с вами работать. Шизоиды очень долго настраиваются на терапию, они боятся близости и любого интимного контакта. А работа с образами – это близкий контакт, открывающий многое о клиенте.
Как же начать терапию с шизоидом? Дверь-контакт подсказывает вам – через поведение. С шизоидом стоит говорить о самых обыденных вещах – о том, что с ним происходит в течение дня и как он справляется с текущими делами. Если в этом он сможет открыться, то останется в терапии.
Чувства у шизоида вытеснены, потому что контакт с ними вызывает сильную боль. Чувства здесь – дверь-ловушка, в которую не стоит заглядывать сразу, поскольку без подготовки такая работа будет мучительна.
Приведу пример. Эта девушка приезжала на терапию из другого города. (Шизоиды часто выбирают психологов подальше от того места, где живут. Так им легче прервать контакт, если что-то не заладилось.) Тогда она училась на архитектурном отделении. В стационаре не лежала, была социально адаптирована, но при этом сторонилась людей. Например, идя по улице и видя кого-то на своём пути, старалась перейти на другую сторону. Аргументировала это так: «Мало ли как они себя поведут!» Ей было сложно позвать официанта в кафе: боялась показать, что она существует; приходилось долго перед этим настраиваться. Избегала ситуаций, где требовалось себя проявить, в контакты не вступала.
Она записывала самонаблюдения с восьми лет и желала мне их прочитать, не ожидая интерпретаций. (Хочу отметить, что девушке становилось лучше, даже когда мы просто говорили о рутине её жизни.) В этом случае начинать работу с запроса было бы неэффективно; прежде всего ей необходимо было почувствовать себя в безопасности и убедиться в добрых намерениях терапевта.
А запрос был такой: «Страшно жить, если не чувствуешь себя самостоятельным человеком». Я спросила: «Почему ты не чувствуешь себя таким человеком?» Ответы её, как правило, были сухими, формальными, не соответствующими возрасту. Она сказала: «У меня нет требуемых для жизни качеств. Не смогла их в себе развить». А спустя некоторое время её мама сообщила, что семья готова привозить девушку на терапию в другой город сколько потребуется, потому что на тот момент я оказалась единственным человеком, с которым она согласилась говорить о себе.
Шизоиды, если присмотреться, обычно ведут себя странновато. Они об этом знают, но никогда ни с кем эти странности не обсуждают. Поэтому если шизоид поддерживает с вами разговор о своём поведении, это уже победа.
Поскольку у шизоидов избегающий тип поведения, у них очень мало знаний о том, что происходит вокруг, только фантазии. Дефицит базового межличностного опыта связан с искажениями мышления. Если помните, девушке было страшно, что её заметит официант, и когда я поинтересовалась, что может произойти, если проявить себя и сделать заказ, она высказала предположение: «А вдруг официант – психопат?» Вот почему в работе с шизоидной адаптацией наша дверь-цель – мышление.
Глубинное чувство шизоида – страх (причина избегания). Этот страх будет мишенью терапии, но только после того, как вы проработаете мышление.
С искажениями мышления мы работали в ролевых ситуациях, но при этом я не обращалась ни к её чувствам, ни к телесному опыту. Я предложила ей представить себя официантом, который видит, что одна молодая гостья за столиком боится сделать заказ, и рассказать от его лица, что он о ней думает. Девушка рассказывала свои версии, и если они оказывались откровенно нелепыми, то моя задача как терапевта состояла в том, чтобы из моей «незатуманенной» позиции показать другие возможные идеи стороннего наблюдателя, расширить её представления о социальной среде.
Работая с шизоидным мышлением, полезно задавать вопросы, побуждающие к раздумьям:
• Какие альтернативные варианты (развития событий, решений) могут быть?
• Откуда ты это знаешь?
• Как именно это может произойти?
• Как это реализовать?
Но есть одна важная деталь: терапевту с шизоидной адаптацией не следует брать в работу шизоида.
Через ролевые игры удобно формировать понимание того, что мир разнообразен, доносить знания о мире, которых у шизоидов нет, поскольку они «в домике». Из нешизоидного опыта мы проясняем и выявляем ошибки и фантазии. Чтобы исправить искажённое мышление, терапевт последовательно и долго разбирает ситуацию за ситуацией и даёт происходящему более реалистичную оценку.
После того как мышление станет более адекватным, придёт в устойчивую ремиссию с укреплённой мыслительной базой, можно приближаться к чувствам. В описанном случае мы на пятой встрече подошли к истории, которая прояснила, чем обусловлена её шизоидность. Оказалось, что причина в маминой травме: когда девочка была очень мала, мама родила второго ребёнка – мальчика, которого вскоре потеряла. Поскольку по возрасту девочка находилась в слиянии с мамой, в этом состоянии «мы» она интроецировала потерю матери и переживала чувство материнской утраты и вины по отношению к рано умершему брату.
1.1.13. Асоциальная адаптация
Дверь-контакт – поведение.
Дверь-ловушка – мышление.
Дверь-цель – чувства.
Аутентичное чувство – страх.
В работе с асоциальной адаптацией для терапевта очень важно умение выразить твёрдую, уверенную позицию (владение стилем «асфальтоукладчик»). Человек с асоциальной адаптацией тоже шизоид, его адаптация так же ориентирована на выживание. Но если шизоиды, о которых мы говорили выше, прячутся «в домик», то антисоциальные шизоиды нападают. Они прячутся за агрессией, которую сами инициируют, выстраивают нападающую позицию, чтобы никто не подошёл и не попытался установить контакт. Нападают заранее, ведут себя странно, отвергают социальные нормы, отгораживаются от других людей разными способами, внешне выглядят агрессивными. Характерная черта этих людей – защита через агрессию, причиной которой является страх: они так боятся, что кто-нибудь придёт в их интимное пространство, что стараются опередить потенциального внешнего «агрессора».
Почему асоциальная личность ведёт себя активно? Потому что в глубине души имеет надежду, что кто-то сумеет наконец разглядеть скрытый инфантильный страх, толкающий к нападению.
Люди такого склада ведут себя вызывающе. Например, от них можно услышать заявление, что вы последний в городе терапевт и хуже вас никого нет. Если они увидят обиду или испуг, то уйдут, испытав разочарование. В терапии такой клиент останется с тем, кто выдержит его атаку, распознает скрывающуюся за страхом потребность в контакте и будет реагировать на агрессию активно, уверенно и спокойно. И при этом конструктивно. То есть от вас потребуется не только продемонстрировать твёрдость характера, но и предложить понятные и последовательные шаги по решению проблемы. В этот момент вам действительно не должно быть страшно.
Поэтому вначале попробуйте удержаться в нейтральной позиции, а затем представить себе, что на вас кричит и нападает маленький несчастный ребёнок. Скажите себе: «Когда ты так на меня орёшь, я чувствую, что тебе внутри очень больно. О чём твоя боль?» И тогда всё получится.
Характерный пример проявления асоциальной адаптации можно увидеть у детей-шизоидов. Такой ребёнок после разлуки с матерью бежит к ней навстречу с кулаками, желая наказать её за отсутствие. Но если она выдерживает агрессию и удерживает его в контакте, то они расслабляются и отдаются контакту.
Асоциальный шизоид хочет вас наказывать, но так, чтобы вы при этом его поддерживали и принимали даже таким. В частную практику они попадают крайне редко, не каждый захочет платить деньги, чтобы получить возможность накричать.
Иногда они действуют по суицидальному сценарию: я вас доведу, я убью себя и сведу вас с ума. (Но если вдруг вы с ума не сойдёте, то я бы хотел близости.) Важно не реагировать на эпатажное поведение. Когда они нападают, то ждут реакции и, получив её, чувствуют себя в безопасности. Но на самом деле они хотят контакта, и если собеседник проверку не прошёл, а выдал вместо этого ожидаемую реакцию, то контакт разрушается.
Обычно это люди из определённых слоёв, где таким поведением никого не удивишь. Ставить глобальные терапевтические цели с ними невозможно, для этого вам пришлось бы стать новым Макаренко. Не стоит стремиться довести их до полного выздоровления.
Вступив в контакт, человек с антисоциальным поведением склонен привязываться и проявлять требовательность. Мыслит он при этом примерно так: «Я в тебя поверил, не разочаруй меня». Но терапевт не может быть матерью или отцом, и в терапии асоциалы не могут утолить тот дефицит, который восполняется только родителями или за счёт выращивания соответствующих внутренних структур.
Вам придётся всё время быть настороже. Работая в стационаре, я наблюдала случай проявления агрессии у больного с расстройством шизоидного спектра с выраженными асоциальными тенденциями. Этот человек испытал расположение к молодым психологам; он открылся им и откликнулся на предложения принять участие в выставке поделок. Туда он принёс недоделанную в школьном возрасте модель фрегата, рассчитывая на похвалы и внимание. Но, не получив бурной восторженной реакции, понял, что его не будут напитывать материнской любовью, и начал наказывать за это – ломать поделки других пациентов.
Личность с расстройством шизоидного спектра можно назвать личностью «без дна»: сколько в неё ни «заливай» любви и внимания, голод не будет утолён, всё провалится, как сквозь решето. Получать любовь им необходимо постоянно. Они будут требовать этого и мстить, если окажется, что вы не готовы стать для них вечным питающим источником. Испытывать благодарность эти люди не способны. Именно поэтому так много выгоревших психиатров среди тех, кто работает с шизофрениками.
Итак, после установления контакта наша дверь-цель – чувства. У асоциала чувства возникают сразу, если вам удалось нейтрализовать первичную агрессию.
Дверью-ловушкой в данном случае будет мышление, и вот почему: ваш опыт может оказаться совершенно бесполезным для человека, которому пришлось выживать в социально опасной среде, и его реальность может кардинально отличаться от вашей.
Основное чувство человека, который вынужден выживать, – страх, что его уничтожат, что ему не будет места в этом мире.
Асоциального шизоида надо отличать от ядерного психопата; второй кричит всегда и в любой ситуации агрессивен. Шизоид будет реагировать агрессией только в страшных для себя обстоятельствах, он не будет кричать на улице на первого встречного.
Кроме двух адаптаций, глубинным чувством везде оказывается страх.
1.1.14. Параноидная адаптация
Люди с параноидной адаптацией тоже относятся к шизоидам и решают задачу выживания. Этот тип личности я называю аутичным, избегающим. У Поля Вара они называются шизоидами.
Дверь-контакт – мышление.
Дверь-ловушка – поведение.
Дверь-цель – чувства.
Чувство-мишень – страх (как и у всех шизоидов).
Параноик справляется со страхом близости через подозрительность и контроль, поэтому с ним не следует сразу заводить разговор об условиях жизни, его занятиях, бытовых привычках и т. д. Иначе он начнёт вас подозревать, например, в том, что вы хотите ему навредить.
В поведении параноик соединяет две стратегии шизоидов, о которых сказано выше. С одной стороны, он может прощупывать почву, нападая: «Я знаю, что вы думаете про меня!» С другой стороны, он не набрасывается открыто, действует более осторожно.
Почему дверью-контактом будет мышление? Чтобы развенчать их иллюзии о том, что другие люди беспрестанно наблюдают за ними и стремятся им навредить.
Искажение мышления – общая проблема шизоидов. Но параноидная адаптация формируется позднее, чем две предыдущие, поэтому с параноидным шизоидом ошибки мышления можно вскрывать сразу через дверь-контакт.
Те, кто адаптирован по параноидному типу, желают, чтобы весь мир смотрел на них, следил за ними. Это их фантазии, которые надо обнаруживать в личной терапии либо на группе, находя ошибки.
Когда-то я вела в стационаре группу больных с шизоидной структурой психики и заметила, что молодой человек параноидного склада не может сконцентрироваться на сказкотерапии. Нам пришлось немного отвлечься.
– Вася, а почему ты не с нами?
– Андрюша смотрит в пол и думает обо мне!
– Почему?
– Я точно знаю.
Эта уверенность не снимается ничем, кроме фактов.
– Давай спросим у Андрюши. Андрюша, когда ты так сидишь и смотришь в пол, ты думаешь о Васе?
– Нет.
– А ты можешь сказать, о ком ты думаешь?
– Я стесняюсь.
– Почему?
– Потому что я думаю о вас, Людмила Владимировна.
– Видишь, Вася, не все думают о тебе. Некоторые думают обо мне.
Шизоидным параноикам очень полезна работа в психодинамической группе, где сразу можно узнать, кто о чём думает. В обычной индивидуальной работе с ними следует расшатывать их схемы мышления, подводить к допущению, что мысли и реакции окружающих людей могут возникать и по другим поводам.
Одна девушка, например, рассказывала, что боится ходить в магазин, потому что когда-то в магазине два молодых человека не обратили на неё никакого внимания.
– Как ты думаешь, почему они не обратили на тебя внимания?
– Наверное, потому что они думали обо мне, но не хотели мне это показывать.
– А с чего ты взяла, что они думали о тебе?
– Ну я ведь пришла в магазин! Конечно, они должны были думать обо мне.
«Неудобные» вопросы типа: «О ком ещё те два парня могли бы думать в магазине? А что если они просто колбасу выбирали?» – могут вызвать реакцию обиды.
Все шизоиды так или иначе ощущают себя центром мира; в их симптомах это ощущение выражается немного по-разному. Для людей с параноидными чертами даже воображаемые преследователи – это целое событие, которое они долго обсуждают.
В более тяжёлых случаях начинается поиск подслушивающих устройств и подозрения в адрес телевизора. С этого момента уже проявляется параноидный бред и психотический срыв. «Мой босс меня хочет, а никто не верит. Я чувствую, что он хочет, но молчит. Надо поставить камеры ко мне в кабинет или к нему в кабинет, чтобы снять, как он хочет меня».
Это значит, что вы уже точно не поможете, нужен психиатр.
1.1.15. Упражнения для работы с шизоидной адаптацией
За время работы у меня сложился набор медитативных упражнений, которые я использую в работе с шизоидной адаптацией. Некоторые из них помогают определить шизоидность.
Часто можно выявить шизоидность во время упражнении «Дерево», когда человек помещает себя внутрь дерева. При словах «представьте себя деревом» клиент ощущает себя внутри ствола, то есть дерево ему очень велико. Дерево в данном контексте замещает образ психологической матки, в которой живёт шизоид.
Ещё одно иллюстративное упражнение – «Человек». Шизоидность на рисунке интерпретируется так: отсутствие объёмного тела (тело состоит из палочек). Подобный рисунок означает, что в теле нет энергии, она вся вытеснена. Чувств тоже нет.
Если в ходе упражнения попытаться одномоментно вернуть всё вытесненное в тело, клиент будет переживать болезненные ощущения.
Самым популярным по праву можно назвать упражнение «Существо в цепях» из практики ЭОТ для прорабатывания эмоциональной зависимости.
Сама по себе эмоциональная зависимость представляет модель слияния орального характера. В упражнении шизоидность проявляется в образах камер, замкнутых пространств и т. п. Сети, цепи и другие не дающие свободы препятствия у шизоидов объёмны и многослойны. Вместо одной цепи их окажется много, а если сам узник сидит в пещере, то пещера может располагаться под водой. И чем больше этих слоёв в образах, тем ярче выражена шизоидность.
Если же свободу существа ограничивает не цепь, а, например, браслет, который можно снять по своему желанию, – шизоидности нет.
Ограничителями свободы часто выступают образы чего-то круглого, похожего на кожаный мешок. Этот образ у шизоидов символизирует узы, сковывающие существо. Само существо чаще всего предстаёт маленьким гоблином, которому страшно выходить наружу. «Все увидят, какой я урод». Они не осознают, что мешок не защищён, что оболочку, которая воспринимается как защита, можно пнуть, кинуть или ударить вместе с тем, кто внутри.
Когда приходит осознание, что вовне есть другая реальность и мешок вовсе не даёт гарантий безопасности, появляется готовность искать выход. «Тут только кесарево», – предлагаю им я. А если серьёзно, то я рассаживаю на два стула мешок и его обитателя. Шизоидам обычно очень жалко матку, они боятся её разрушить. Я объясняю, что это сепарация: «тут либо ты, либо она». А что же там ценного, что тебе жалко? Частый ответ – кровь. У них единая «кровеносная система». Мы можем спросить у кожаного мешка: «Как ты продлеваешь себе жизнь, матка?» Она ответит: «Через кровь». То есть обитатель думает, что матка его питает, а на самом деле он уже давно питает её сам. Поэтому в терапии мы забираем у матки образ питательной жидкости и отдаём его персонажу внутри. Это помогает разрушить слияние.
В этой медитации часто возникают образы околоплодных зелёных вод, слизи, застывшего эмбриона. Стенки матки утолщаются (за счёт жизненной силы обитателя).
Когда кровь и питательная энергия возвращаются обитателю, за счёт этого он растёт и становится мужчиной или женщиной. А матка становится шелухой, которую уже не жалко. Шелуха исчезает, в ней больше нет ценности.
Выход в том, чтобы забрать свою энергию жизни у того, с кем ты в слиянии. Клиенты сопротивляются, поэтому необходимо объяснять каждый этап. Им жалко покидать мешок, потому что в нём остаётся много ресурса. Нужно экспериментировать, выстраивать диалоги, спрашивать, какие изменения произойдут с обитателем, если вернуть ресурс. Рассматривать обратную ситуацию – что произойдёт, что ожидает матку и обитателя, если не возвращать ресурс.
Когда в ходе работы силы возвращаются, они постепенно перестают видеть себя уродами. Часто удивляются: «Сколько у меня сил было, а я не пользовался!» Когда переход уже произошёл, они испытывают удовлетворение. Но помните, что очень часто по прошествии времени шизоиды регрессируют, пытаются опять вернуться в матку. Это бывает в разных образах, и вам придётся несчётное количество раз сепарировать одно и то же до тех пор, пока в реальной жизни клиент не пройдёт достаточно ситуаций, которые укрепят его уверенность в своих силах, его ощущение «я могу».
Иногда в этом упражнении узы выглядят, как могила, скрытая за образом клумбы, холмика, кургана, подземной пещеры. Если всплыл этот образ, надо позволить клиенту прожить такую ситуацию. Обычно я предлагаю улечься на стулья или на ковёр и говорю: «Ты умерла». Всегда стоит идти за клиентом и проверять, как будет развиваться ситуация. Спрашивать, что получит клиент, если он реально умрёт, какие ощущения и образы возникают у него в роли умершего. С одной стороны, такие клиенты хотят жить, с другой – какая-то их часть хочет умереть.
Как-то клиентка сказала, что живая – она обычная, как все. А смерть сделает её особенной. Раз она не смогла стать совершенной в жизни – значит, можно умереть и лежать идеальной в свадебном платье. В этом шизоиды стремятся обрести уникальность.
Медитация «Безопасное место»
Закрываем глаза, садимся удобно. Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Тело расслабляется. Руки и ноги лучше не перекрещивать. Обращаемся к себе. Направляем внутренний взор в себя. Дышим.
Представьте место, где можно скрываться и пребывать в безопасности. Как выглядит укрытие от пугающих жизненных ситуаций? От чего именно защищает укрытие? От каких пугающих жизненных ситуаций может оно защитить? Безопасность укрытия реальная или иллюзорная?
Посмотрите на того, кто скрывается в укрытии. Как он выглядит? Какого рода облегчение получает он в жизни благодаря укрытию? Может ли житель укрытия свободно покидать своё убежище и возвращаться в него? Может ли житель укрытия испытывать удовольствие за пределами безопасного места? Чем он обычно занят в своём убежище? Как проходит его день? Есть ли у него возможность расти, оставаясь в укрытии?
Запомните все, что вы видели. Можете вернуться и нарисовать это.
Зарисовывать итоги медитации полезно для работы с клиентами. Это более наглядно для терапевта. На картинке может быть что-то важное, о чём клиент не расскажет вам.


