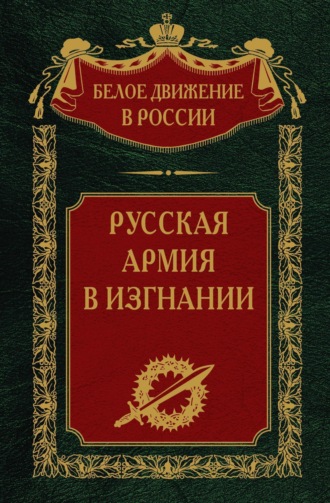
Русская Армия в изгнании. Том 13
Что касается этого вопроса в Королевстве С.Х.С., то там его поднимать почти не приходилось, так как первая партия была принята на работы по расчистке полей после боев и сбору брошенного имущества, с непременным условием сохранения военной организации, и что касается приема в пограничную стражу, то уже воинский ее характер не требовал каких-либо условий по сохранению наших частей, которыми она была пополнена. Наши части составили четы (роты) и более крупные соединения.
Приходилось только выяснить вопрос о праве ношения оружия и военной формы, на что последовало согласие сербских властей. Как известно, пока не износилась военная форма у наших офицеров, они ее носили почти до самой последней войны, не вызывая никаких возражений со стороны сербов.
Как видно, все заявления союзников в Константинополе о требовании со стороны балканских правительств отправления только беженской массы совершенно не соответствовали действительности. Так же заблуждался и М.Н. Гире, находившийся под влиянием наших левых милюковских кругов, считавший, что желание наше сохранить армию помешает только спасению и выводу из лагерей ее чинов.
Скоро после прибытия в Белград я получил от генерала Миллера уведомление о последовательном ассигновании на устройство наших контингентов на Балканах еще 200 000 долларов и 1½ миллиона франков. Это давало мне новые возможности для размещения в Болгарии и Королевстве С.Х.С. еще новых контингентов для содержания на наш счет, в ожидании возможности разместить их на работы. С другой стороны, я чуть ли не еженедельно стал получать то непосредственно от Главнокомандующего, то от моего заместителя в Константинополе, генерала Кусонского, телеграммы, предписания и просто письма о неизбежном прекращении довольствия наших частей в лагерях, о начавшемся ухудшении настроения среди них и на необходимость спешного решения вопроса о вывозе всех наших контингентов на Балканы. С другой стороны, генерал Врангель был очень недоволен, что до тех пор неизвестной нам организации – Кубанскому Земледельческому союзу Фальчикова – болгары разрешили перевезти 1000 человек с Лемноса. Какие-то левые связи способствовали получению этого разрешения помимо меня и Петряева. Но никаких предварительных мер на Лемносе принято не было, и когда обрадованные союзники получили возможность грузить казаков без участия генерала Врангеля, то таковых земледельцев не оказалось и генерал Абрамов, главный наш начальник на Лемносе, стал грузить донских казаков. Но Фальчиков принял меры, чтобы воспрепятствовать их приему Болгарией, как не отвечающих условиям их приема для размещения на сельскохозяйственные работы, и этот эшелон простоял на рейде Константинополя довольно долгое время.
Все это вызвало ряд сношений Врангеля с нашими посланниками на Балканах и в Париже с предложением, чтобы ни одна перевозка и ни одно ходатайство о переселении на Балканы не производилось бы помимо меня. В результате с этих пор никаких самостийных выступлений по этим делам уже не производилось. Имея возможность обосновать мои просьбы о приеме на наше содержание состоявшимся ассигнованием крупных средств послом Бахметевым, я усилил мои настояния о согласии на новые перевозки одновременно в Королевстве С.Х.С. и Болгарии. По многим данным, нам было много интереснее сосредоточить возможно больше частей в Королевстве С.Х.С., но условия финансового порядка позволяли нам, ввиду низкого курса болгарской валюты, за одну и ту же сумму содержать в Болгарии в 4 раза больше людей. Кроме того, болгары, в желании получить иностранную валюту, склонялись более легко принять наши контингенты. В августе месяце, наконец, стали прибывать через Гевели наши кавалерийские части для распределения по постам пограничной стражи. Туда же должны были быть направлены гвардейские казаки по окончании осенних работ по расчистке полей сражений в Южной Сербии (Македонии).
Ввиду затяжки вопроса о приеме Балканскими славянскими государствами наших контингентов, мне пришлось принять меры к устройству наших контингентов в Чехословакию, Грецию и Венгрию. Возобновилась переписка с Леонтьевым, Поляковым и Лампе.
Поначалу как будто бы выявились какие-то перспективы, но постепенно все наши надежды улетучились, и только Чехословакия приняла около 100 человек, по просьбе нашей академической группы в Праге, для поступления в высшие учебные заведения и 1000 человек на сельскохозяйственные работы. Независимо от меня принимались и дети в среднюю школу. Приняла и Венгрия около 200 человек.
Одновременно с мерами по принятию наших контингентов на Балканы я должен был озаботиться и вопросом о санитарной их помощи. Еще в бытность мою в Париже я вошел в связь с Главноуполномоченным Красного Креста сенатором Иваницким для организации этого дела. М.Н. Гире мне сообщил, что для получения дополнительных ассигнований на эту надобность всего лучше передать заботу о попечении наших больных Красному Кресту. В этом случае Бахметев легче согласится на новое ассигнование. Я так и поступил, и действительно наш Красный Крест получил возможность организовать на Балканах наши лечебные заведения.
В заботах об организации нашей жизни на Балканах я получил согласие генерала Врангеля на открытие, по прибытии в Болгарию наших частей, Военной академии. Болгария была избрана мною по двум причинам. Во-первых, мы там ожидали сосредоточения большого числа наших частей, притом таких, какие обещали дать наиболее подготовленный для поступления в академию состав слушателей, и, во-вторых, мы могли получить для этого значительную поддержку во всех отношениях со стороны Топилджикова. Болгария, по мирному договору, была лишена права иметь свою Военную академию, почему она охотно должна была, по моему мнению, использовать нашу академию для своих офицеров, подобно тому как она посылала их в мирное время в Петербург. Действительно, Болгарское военное министерство охотно отозвалось на мое предложение, и мы достигли определенного соглашения по этому вопросу.
Генерал Врангель послал в Париж предложение генералу Головину59 возглавить академию, был подобран серьезный состав профессоров, но генерал Головин отказался. Тогда было предложено возглавить академию генералу Юзефовичу60, который охотно откликнулся, но вопрос стал осложняться, главным образом, тем, что мы наткнулись на определенное противодействие со стороны нашего посланника в Сербии, который, узнав о нашем проекте, стал горячо против него возражать. Он ожидал провала наших стараний по намечавшимся перевозкам в Сербию при одном только намеке на возможность болгарским офицерам поступать слушателями в академию. Пришлось это дело отложить, и затем оно отпало в связи с намечавшимся скоро изменением отношений к нам со стороны правительства Стамболийского.
Весь конец июля и август месяц я добивался согласия Болгарии и сербов на принятие новых контингентов. Как указывалось выше, болгары были склонны на принятие новых контингентов на наше иждивение, сербы же предпочитали устраивать наши части, с тем чтобы они своей работой сами добывали средства на свое содержание. Этим, конечно, выявлялось более серьезное отношение сербов, которые должны были предвидеть неизбежность, в короткий сравнительно срок, израсходования наших средств, что поставило бы их в необходимость принять на себя наше содержание.
Весь указанный период я переезжал то в Софию, то возвращался в Белград. То там, то здесь получал я тревожные данные о возможности отказа. Приходилось искать свидания то со Стамболийским, то с Пашичем, то с министром общественных работ и военным. А в то же время тревожные сведения из Константинополя о неизбежном прекращении французского довольствия и о падении духа частей продолжали поступать.
Наконец, в начале августа я получил согласие на принятие Королевством С.Х.С. 3000 человек на общественные работы по прокладке новых железнодорожных линий и в конце августа от болгар согласие на прием на наше иждивение 7000 человек. Так как 7000 наших контингентов должны были прибыть в Болгарию организованными воинскими частями, то пришлось договариваться об условиях их внутренней жизни и выработать меры к их довольствию при помощи болгарского интендантства. Заключенное, по моим указаниям, генералом Вязмитиновым с генералом Топилджиковым соглашение вполне нас удовлетворяло. Мы сохранили полную нашу организацию, дисциплинарные права начальников, суды, имели казарменное расположение, и в отношении продовольствия наши интендантские органы имели возможность взаимной деятельности с таковыми же органами болгарского военного министерства. Наш контроль, работавший при участии нашего посланника, следил за расходованием переданных болгарскому правительству долларов, переведенных по существующему курсу на болгарские левы.
В Болгарию были назначены генералом Врангелем 6000 человек с Галлиполи и 1000 человек с Лемноса. С ними должны были прибыть штаб генерала Витковского и штаб Донского корпуса с генералом Абрамовым. Кавалерийская дивизия с генералом Барбовичем61, ее начальником, становилась на пограничную стражу в Королевстве С.Х.С.
Начальник Кубанской дивизии генерал Фостиков уже находился в Сербии вместе с большей частью своей дивизии, отправленной на работы. Таким образом, большая часть наших контингентов и их старшие начальники со своими штабами должны были к сентябрю месяцу уже покинуть лагеря Константинополя.
Медленно, но постепенно шла отправка, и к 15 ноября, по точным данным, по донесениям наших военных агентов, в Болгарии сосредоточились: группа генерала Абрамова, считая и бригаду генерала Гусельщикова, – 4573 человека и группа генерала Витковского (1-й корпус) – 8336 человек. Из всего этого числа на работах находилось 3848 человек. К тому же времени в Королевстве С.Х.С. находились: на пограничной страже (Кавалерийская дивизия) – 4203 человека. Отряд генерала Фостикова, в составе 3000 кубанцев и 1500 человек Технического полка, находился на работах. Итого, к этому времени на Балканах сосредоточилось примерно 21 600 человек. Кроме того, всякими дополнительными ходатайствами мне удалось еще перевезти 3 кадетских корпуса. Кавалерийское училище, Галлиполийскую гимназию, семьи офицеров, казаков и солдат, лазареты – старался все сосредоточить на Балканах – в дополнение к разрешенным перевозкам. Конечно, тщательного контроля при погрузках на пароходы и при разгрузках не производилось, кроме первой партии, поэтому на Балканы просочилось больше, чем нам было разрешено.
Но к зиме 1921 года в лагерях еще осталось около 12 000 человек. Добившись приема второй партии в оба государства, после короткого промежутка времени, я должен был начать новые попытки. Новое ассигнование в 200 000 долларов и 1 000 000 франков должно было этому способствовать. Новые усилия по приему обещали быть самыми трудными. При помощи Штрандтмана удалось заручиться содействием посла Королевства в Париже – Спойлаковича, бывшего сербского посланника в Петербурге, и нашего друга – посланника в Константинополе Шаповича, очень сблизившегося с генералом Врангелем.
Одновременно съездив в Болгарию, я скоро получил соглашение на принятие на счет нашего содержания еще 1000 человек, и наконец, к зиме получено согласие болгар на принятие на работы еще около 7000 человек. От сербов я получил в августе согласие на прием новой партии в 1000 человек, из которых 500 были обеспечены работой.
Передо мной мое письмо М.Н. Бирсу, которому я сообщил в ноябре о результатах усилий по размещению наших частей. В нем я писал, что согласно уже последовавшим соглашениям к концу года в Болгарии мы сосредоточим около 17 300 человек и в Королевстве С.Х.С. – 9700. К этому времени, писал я дальше, в лагерях Константинопольского района остается около 2500 человек, которые обеспечены сербскими предложениями работы с начала 1922 года. Таким образом, моя работа по передвижению наших частей на Балканы была выполнена. Оставалось лишь ждать начала 1922 года, чтобы завершить перевозку. Оставшиеся 2500 человек в Галлиполи были сняты с французского пайка, и они перешли на довольствие из средств Главного командования, при существенной помощи, оказанной нам Лигой Наций и организацией Ара.
Я всегда с удовлетворением выполненного долга вспоминал это тяжкое для меня время. Не только армия была выведена из лагерей, но она сохранила полностью свою организацию, и были подготовлены пути для сохранения ее в будущем, при условии прекращения существования на отпущенные средства.
Вспоминая время нашего пребывания в Константинопольских лагерях и переселение на Балканы, невольно останавливаешься на роли французов. Франция оказала нам выдающуюся помощь при Крымской эвакуации. Без нее мы не могли бы не только сохранить армию, но и неизвестно, как бы мы вышли из создавшегося положения, когда на Босфоре появилось свыше 100 вымпелов и 150 000 людей, ушедших из Крыма.
Прием наш в лагерях и продолжавшееся почти год содержание наших частей и гражданского населения потребовали от Франции громадных расходов, которые, конечно, не могли быть возмещены старыми судами, отданными Франции в залог нашего содержания. Увы, несколько начальников, и главным образом Шарпи и Бруссо, своим высокомерием и пренебрежением к нашим нуждам и желаниям достигли того, что вместо благодарности все русское население лагерей прониклось чувством недоброжелательности.
Даже исключительное благожелательство французских моряков, и главным образом адмиралов де Бона и особенно Дюмениля, не смогло изменить нашего отношения к французам. Лично я давно переборол это чувство и не могу не проникнуться благодарностью ко всему тому, что для нас сделала Франция в тяжкие для нас годы эвакуации и переселения по Балканским странам.
При моих переговорах на Балканах мне пришлось столкнуться с представителями нашей общественности. Как в Болгарии, так и в Сербии наша эмиграция была представлена в подавляющем большинстве своим правым крылом. В Болгарии она была, по существу, по своим настроениям ближе к нашей белой идеологии, чем белградские круги. Там партийно-монархические элементы были очень сильны. Но в период усилий по нашему переселению монархические круги высказывали нам полное сочувствие и готовы были чем только могли прийти на помощь. По инициативе этих кругов была даже открыта подписка денежных средств на усиление средств армии, которая дала если не существенные, то, во всяком случае, трогательные результаты.
Генерал Врангель им представлялся как искренний монархист, только в силу своего положения возглавителя Белой армии официально придерживавшийся белой идеологии. При первых же его выступлениях политического значения, носивших определенно все принципы белой идеологии, не склонной стать на путь подчинения какой-либо иной партийной доктрины, многие лица стали искать виновников среди его окружения, удерживавших, по их мнению, Врангеля от проявлений его монархических настроений. Конечно, как ближайший сотрудник Петра Николаевича, я был первым взят на подозрение. Когда же мне приходилось в Белграде или Софии высказываться по политическим вопросам, то поневоле я выявлялся ярким сторонником непредрешенческих принципов, и людская молва приписала мне вредное, с ее точки зрения, влияние на Врангеля.
Тогда же впервые послышались голоса о моей будто бы принадлежности к масонству. Постепенно определенная неприязнь монархических элементов эмиграции в отношении меня росла. С другой стороны, по своим взглядам я был также неприемлем и для левого милюковского и социалистического крыла. Сохранившие к генералу Деникину свои симпатии круги также проявили в отношении меня свои отрицательные чувства. Лишь в той части общественности и вообще эмиграции, которая была органически связана с армией, я чувствовал моральную близость. Находилось немало завистников. На мою долю выпала очень трудная, но одновременно и ответственная роль, дававшая мне большие возможности общения с выдающимися деятелями той эпохи и выдвигавшая меня в исключительное положение. Кроме того, в этот период я был материально обеспечен довольно широко, так как мне было ассигновано на расходы, связанные с моими передвижениями, от финансового отдела в Париже около одного английского фунта в день, что при падении валюты на Балканах представляло довольно значительную сумму, несмотря на то что на этот фунт я должен был нести расходы и на сопровождавшего меня офицера Генерального штаба. Наконец, мне в то время не было еще полных 40 лет, почему в глазах многих, более старших, я представлялся молокососом.
К концу моих шагов по переселению армии на Балканы, я уже стал определенно чувствовать недоброжелательство со стороны известных кругов эмиграции.
После отправки в Болгарию третьей партии из Галлиполийского лагеря, с которой отбыл и штаб Кутепова, дальнейшее пребывание Врангеля в Константинополе уже не представлялось необходимым, особенно ввиду получения согласия, правда еще в принципе, со стороны белградского правительства на прием последней партии. Ввиду этого я предпринял шаги перед сербами о возможности переезда в Королевство С.Х.С. Врангеля и его штаба. К этому времени международная обстановка на севере Балкан несколько осложнилась.
В Венгрии только что была выполнена со стороны бывшего императора Карла попытка к восстановлению императорской власти и, кроме того, со стороны венгров последовали заявления о том, что, по их сведениям, прибывшие в Королевство С.Х.С. наши контингенты привлекаются на усиление состава его армии. Это вынудило Штрандтмана и меня действовать с известной осторожностью и не поднимать вовсе вопроса о сохранении за Врангелем, в Сербии, его прав Главнокомандующего. Кроме того, со стороны Штрандтмана, ввиду его переговоров с министром иностранных дел, был выдвинут вопрос и о нежелательности деятельности в Белграде Русского Совета, организованного Врангелем в Константинополе. Лично я присоединился к этой точке зрения, но не был уверен в согласии на это со стороны Врангеля. Поэтому я решил еще в августе месяце отправиться в Константинополь, чтобы переговорить с ним по этому вопросу лично. Мы долго обсуждали с Петром Николаевичем вопрос о дальнейшей судьбе Русского Совета, причем я высказал Врангелю мое мнение, что раз его деятельности на Балканах будет оказано определенное препятствие, то едва ли, лишенный председательствования Врангеля, он будет в состоянии оказать какую-либо нам пользу. В общем и Петр Николаевич был того же мнения, но, связанный определенными договорами с Советом и получая от него определенную моральную поддержку, Петр Николаевич искал наиболее безболезненный выход, дабы не восстановить против себя ставших близкими нам представителей общественности.
Практически было решено пригласить к Главнокомандующему двух товарищей председателя, профессора Алексинского и князя Долгорукова62, и обсудить с ними создавшееся положение. Мы считали, что они более объективно, чем другие члены Совета, отнесутся к самой возможности ликвидации Совета. На следующий день Алексинский и Долгоруков явились к Врангелю, и я им изложил создавшееся положение, при котором ни в Болгарии, ни в Королевстве С.Х.С. официальное существование Совета не представлялось возможным. Подробно остановившись на переговорах, которые я вел по этому вопросу с нашими посланниками и с представителями власти в обоих государствах, я посоветовал Русскому Совету самому принять решение о сложении с себя правительственных функций, являвшихся к тому же одной фикцией, сохранив за собой лишь финансовые и контрольные функции и ограничив свою деятельность политической работой.
Ни со стороны Алексинского, ни Долгорукова препятствий к этому не встречалось. Врангель, перед тем как нам расстаться, просил их никому не говорить о нашем совещании, чтобы лишь на предстоящем на следующий день общем собрании Совета поднять этот вопрос, на котором и получить содействие обоих товарищей председателя. Они это определенно обещали. Но в тот же день все члены Русского Совета были осведомлены о нашем секретном собрании, и уже стало известно о том, что, за редким исключением, члены Совета обвиняли меня в давлении на Врангеля покончить с Советом.
К числу моих недоброжелателей прибавилось еще значительное число общественных деятелей. Все члены Совета получали приличное содержание из нашей казны, и в ограничении их деятельности, и при грозящей ликвидации они чувствовали возможность прекращения казенного денежного довольствия. Вполне понятно, что и это играло известную роль в проявлении затем определенной с их стороны ко мне не до брожелательности.
На состоявшемся заседании Русского Совета, под председательством профессора Алексинского, я изложил сначала Совету вопрос о принятии наших контингентов на Балканы, сообщил о результатах моей поездки в Париж и, наконец, коснулся болезненного для Совета вопроса о возможности его переезда на Балканы.
При этом князь П. Долгоруков задал мне вопрос о моем отношении к Русскому Совету и о моих переговорах по поводу него в Сербии, Болгарии и Париже. На это я ответил, что в Париже я уклонился высказываться по вопросам политического значения, так как туда одновременно со мною был командирован Главнокомандующим С.Н. Ильин, его помощник по политической части, но мне все же пришлось высказываться однажды лично от себя на вопрос – о том, считаю ли я лично за Русским Советом преемственность власти адмирала Колчака. На что я ответил, что преемственность власти принадлежит Главнокомандующему, который лишь разделяет ее с Русским Советом. На вопрос о переезде Русского Совета в Сербию я сообщил, что вопрос этот крайне осложнился и что из последнего моего разговора с Пашичем следует, что даже вопрос о переезде туда Врангеля находится в неопределенном положении, так как Скупщиной только что принята Конституция Королевства, по которой не допускается на территории Королевства пребывание чужой армии. «Генерал Врангель будет нашим высоким гостем, но признавать его Главнокомандующим мы не можем», – заявил Пашич. В силу этого, с точки зрения сербских властей, официальное функционирование какого-либо нашего правительственного органа в Белграде не представляется возможным. Поэтому я высказал пожелание о роспуске Русского Совета, хотя бы временно.
По этому вопросу не было прений, и мое сообщение было лишь принято к сведению. Петра Николаевича на этом заседании не было. Я ему посоветовал не присутствовать, чтобы дать членам Совета сначала пережить неизбежную необходимость и лишь потом приступить к обсуждению этого болезненного вопроса о постепенной самоликвидации. Но члены Совета не скоро примирились с необходимостью если не ликвидации, то, по крайней мере, ограничения своих эфемерных правительственных функций.
На следующем заседании Совета, уже под председательством Врангеля, послышались упреки по отношению самого Петра Николаевича, который в своем выступлении заявил, что и он, и армия никогда не забудут поддержки, оказанной Русским Советом, громко выступавшим перед иностранцами и нашей левой общественностью, в нашу защиту, что создавшаяся обстановка вызывает ряд сомнений в возможности в дальнейшем наличия при нем правительственного аппарата и внешнего проявления его власти, как правителя. «Не пришло ли время, – говорил Петр Николаевич, – и правительственным органам, и Русскому Совету уйти в подполье или как-нибудь замаскировать свою деятельность?» В заключение Врангель заявил, что никто другой больше, чем он сам, не может судить, какую огромную моральную поддержку оказал ему Русский Совет в пережитое трудное время. Он добавил, что никакой у него задней мысли нет и что никакой недоговоренности у него в отношении Совета никогда не было и не будет.
На последнем заседании Президиума Совета, 23 сентября 1922 года, Петр Николаевич обратился к нему с речью, в которой заявил, что он предполагал лишь временно прекратить деятельность Русского Совета, считая невозможным произвести в создавшихся условиях новые выборы в широком масштабе. Но Совет вынес постановление о своей ликвидации, которое он, как председатель Совета, утверждает. Ознакомившись с прениями, он счел необходимым добавить, что упреки ему некоторых членов Совета, что ликвидация его являлась преднамеренным решением из опасения засилья одной из политических группировок, и обвинение одного крыла другим о взрыве Совета свидетельствуют о том, что дальнейшая его работа протекала бы в атмосфере партийной борьбы.
При переходе армии в Сербию и Болгарию в Русский Совет вошло большое число, говорил далее Петр Николаевич, лиц, искренно сочувствующих армии, но более далеких ей в прошлом. Поэтому он должен отказаться от создания вокруг армии государственно-национального центра, могущего объединить работу общественно-политических кругов. Ныне она ставила себе задачей облегчить на чужбине тяжелое существование своих соратников и сохранить Русскую Армию, единственно реальную политическую ценность за рубежом. «Я верю, – закончил Врангель, – что наступит время, когда утихнут политические страсти и русские люди объединятся перед лицом общего врага».
В отношении ликвидации Совета я не принимал никакого участия. Я уже не состоял начальником штаба армии и в политической деятельности Врангеля не принимал никакого участия. Но я еще немного раньше считал необходимым ограничить политическую деятельность за рубежом Главного командования и еще год назад считал нужным ликвидировать Русский Совет. Несомненно, что в нашей борьбе за сохранение армии Русский Совет оказывал нам существенную моральную поддержку и давал опору на русскую зарубежную общественность, но Русский Совет имел лишь местное, константинопольское значение. Никакие, даже вполне поддерживающие нас политические организации в других странах не признавали за ним тех прав, которые были так дороги членам Русского Совета. Особенно были против Русского Совета наши дипломатические представители.
Они всецело впряглись в работу по приему наших контингентов Балканскими государствами, хорошо были осведомлены о тех затруднениях, которые могли препятствовать этой работе, и видели в появлении на Балканах Русского Совета ненужное армии препятствие. В этом отношении и я был на их стороне.
* * *
Чтобы составить себе точное представление о всей широте мероприятий, какие мне пришлось проводить для того, чтобы поставить наши усталые от лагерных условий жизни части в наиболее лучшую обстановку и в моральном и в материальном отношениях, интересно иметь представление, как наши части были устроены на Балканах.
Армия ушла из лагерей с чувством наступающего избавления от моральных невзгод и материальных лишений. Будущее давало надежду на лучшие материальные условия, и состоявшиеся перевозки вносили моральное удовлетворение одержанного успеха в борьбе за свое сохранение. С прибытием в славянские страны части армии, закаленные суровыми испытаниями, вступили в новую фазу жизни и борьбы за свое существование.
Расселение армии прежде всего действительно повлекло за собой улучшение материальных условий жизни, а теплое отношение родственного ей населения обещало дать возможность отдохнуть и душой.
Наши части, расселенные в Королевстве С.Х.С. и Болгарии, устраивались там не в одинаковых условиях. В этом отношении они резко разделялись на две группы, в зависимости от источников средств на их содержание.
Первая группа, общей численностью в 12 тысяч человек, сразу по приезде на новые места была поставлена на различного рода работы или службу и добывала своим трудом средства к существованию, требуя от нас лишь дополнительных расходов на различного рода нужды войсковых частей. Группа эта, в свою очередь, по условиям жизни, труда или выполняемых обязанностей подразделялась на две категории, равные по численности: первая категория – это были гости, находящиеся на работах. Вторая категория – части, принятые на государственную службу, – в пограничную стражу и отчасти в жандармерию Королевства С.Х.С.
Вторая группа состояла из частей, находящихся «на иждивении Главного командования», то есть из частей, расселенных в той или другой стране, живущих почти нормальной жизнью воинских частей и содержащихся полностью на средства, ассигнованные послом Бахметевым.
Группа эта была большей по численности и в первое время доходила до 18 000 человек.
Такое положение рассматривалось нами как временное, до подыскания для них подходящих работ. Численность ее постоянно менялась, в зависимости от того, сколько нам удавалось подыскать подходящих работ. Постановка этой группы на работы освобождала имеющиеся в распоряжении Главного командования средства на улучшение тех сторон быта армии, которые не могли быть удовлетворены с достаточной полнотой. Нужды это были – культурно-просветительная работа в войсках, широкое развитие образовательных и воспитательных мероприятий, призрение и помощь нетрудоспособным чинам армии и инвалидам.
Кроме того, возможно большее сокращение чинов армии, содержимых за счет Главного командования, допускало обеспечение целого ряда других условий, важных для дела сохранения армии на более долгий срок. Это давало средства жизни тем учреждениям, которые составляли жизненные ее органы, по характеру своей деятельности не могли быть поставлены на работу. Это допускало сохранение ячеек войсковых организаций, на которые должна была лечь обязанность по осуществлению вслед мероприятий по улучшению быта работающих людей части. Наконец, это же позволяло предусмотреть более полное удовлетворение духовных потребностей армии и на более долгое время и иметь резерв средств на случай каких-либо осложнений в ее существовании.
Среди частей армии, содержимых на счет Главного командования, находились те военные и гражданские учебные заведения, которые были эвакуированы вместе с армией с Юга России или же вновь созданы во время ее жизни на чужбине. Вместе с армией в Королевство С.Х.С. были перевезены три кадетских корпуса и 2 женских института, которые удалось устроить на содержание державных средств Королевства. Эти учебные заведения требовали от нас лишь некоторых дополнительных расходов на улучшение их быта и учебно-воспитательное дело.
По негласным условиям, заключенным мною с правительствами принявших части армии стран, как указывалось выше, вся армия в местах ее расположения сохраняла воинскую организацию, дисциплину, внутренний распорядок жизни и подчиненность своим начальникам и была ограничена только в пользовании оружием, которое было оставлено лишь для учебных целей, в установленных соглашением размерах.


