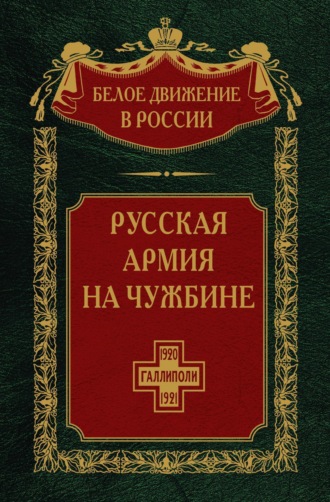
Русская армия на чужбине. Галлиполийская эпопея. Том 12
Когда после тонкого завтрака за чашкой кофе, с ликерами, с коньяком, с сырами разных сортов и с фруктами среди разговора о благотворительном спектакле, о литературной новинке и последней лекции Пуанкаре мимоходом обмолвятся: «Ну, что бедняга Врангель? Как! Армия еще существует! Разве не все разбежались?» – среди этих светских разговоров перед нами вставала другая картина. Развалины маленького города на пустынном берегу. Дом всего с тремя стенами, с дырявой крышей, где ютится семья с детьми, еле прикрытая от дождя и ветра. Пожилой полковник, ночующий под перевернутой лодкой. Палатки лагеря среди размокшей глины. Люди в непрестанном труде, напрягающие силы, чтобы отвоевать себе место на земле. Приземистый, коренастый генерал, крепко сложенный, твердой походкой обходит палатки с раннего утра, и люди, усталые, разбитые, видя его бодрый вид и слыша его решительный голос, вновь становятся бодрыми, выпрямляют спину и бодро берутся за труд.
Когда слышались разговоры вроде того, что кадетизм несколько испортил свое лицо, вспоминался старый князь, в отрепанной одежде, на дырявом диване, в тесной, промерзлой каморке где-то в закоулках Новороссийска. Норд-ост врывался ураганом в каменную яму, куда были брошены люди. Сыпной тиф вырывал то одного, то другого из близких людей. Разнузданные солдаты, посланные отогнать зеленых, перебили своих офицеров и ушли в горы. На вокзале площадная ругань и драки между пьяными офицерами. А старый князь все с тем же упорством настаивает, что нужно продолжать борьбу, идти в Крым и биться до конца.
Водораздел разделил старую от новой России, но линия водораздела прошла совсем не там, где ее намечали лидеры старых партий. Произошла катастрофа, но только не в Крыму, а в Париже.
* * *
В середине января 1921 года в Париже собрался съезд членов Учредительного собрания. Он был обставлен всем соответствующим декорумом, подобающим высокому собранию. Высшие представители дипломатического корпуса, посол в Вашингтоне и посол в Париже выступали со своими заявлениями, оглашались приветствия, произносились речи от лица партийных организаций, устраивались соглашения между фракциями и выносились общие резолюции. Корреспонденты русских и иностранных газет оповещали европейские страны и Америку о дебатах и принятых решениях. Вся внутренняя фальшь была прикрыта бутафорией внешней декорации.
По существу же съезд был лишен всякого серьезного значения. Резолюции по вопросу о признании иностранными державами советской власти, о торговых договорах с большевиками, о концессиях с таким же успехом могли быть вынесены на всяком другом собрании, и вес этих заявлений нисколько не прибавился оттого, что вынесены они были по соглашению между П.Н. Милюковым и Авксентьевым, с устранением Карташева, Гучкова и представителей промышленности.
Все то же, что составляло сущность объединения между кадетской группой Милюкова и эсерами об отношении к Русской армии и к Белому движению, было обойдено молчанием или было высказано в столь неясных выражениях, что только посвященные могли догадываться, для чего, собственно, созван съезд и в чем заключается та новая тактика кадето-эсеровского соглашения, которая должна была пробудить живые силы внутри России и привести к свержению большевизма.
Это были обычные речи и обычные резолюции, уснащенные демократической банальщиной, давно приевшиеся и не только не способные поднять упавший дух русских, замученных в большевистских застенках, но даже хотя бы несколько одушевить самих тридцать членов собрания, выступавших друг перед другом со своими декларациями.
Нельзя сказать, чтобы идея созыва за границей Учредительного собрания была удачной. Инициаторы полагали, что только они, выбранные всеобщей подачей голосов, могут представлять новую, демократическую Россию, и никто другой. Они не умели отрешиться от прошлого, от роли, сыгранной ими в революции, от своей собственной психологии. Деятели мартовской революции, они все еще находились в дурмане революционных лозунгов и партийной фразеологии и не умели понять всей жалкой роли, разыгранной Временным правительством в трагедии русской жизни, не догадывались, что по мере нарастания ненависти к большевизму росло и отвращение к керенщине, как к фальшивой прелюдии большевизма. Они все продолжали верить, что Учредительное собрание пользуется неизменной популярностью в России, и не умели понять, что обман темных народных масс нелепой системой всеобщих выборов по спискам при участии разнузданной солдатчины, малолетних и деревенских баб не мог внушить благоговейных чувств к собранию, завершившемуся арестами, насилиями, убийством и разгоном одних членов другими.
Гораздо большее значение, чем резолюции съезда и его декларации, имело появление на сцене таких фигур, как Керенский и Чернов. Всем стало воочию и безошибочно ясно, в чем заключалась новая тактика Милюкова. Появившееся затем в печати известное письмо Чернова, разоблачающее его двусмысленное поведение на собрании, где он, по его словам, ходил на самом краю пропасти, остерегаясь упасть в кадетскую яму, и постановление центрального комитета партии социал-революционеров в Москве, отвергающее всякое соглашение с буржуазными партиями, явно показали, какими гнилыми нитками было сшито соглашение парижской группы кадетов с заграничной группой социал-революционеров. Но в то время Милюков торжествовал победу; он оказался как раз в своей сфере вынесения деклараций, согласительных формул и резолюций. Какой-то известный парижский скульптор выставил бюсты Милюкова и Керенского как великих людей русской революции, и в газетах писали, что Милюков изображает волю и мощь революции, а Керенский ее порыв и пафос.
Происшедшее затем восстание в Кронштадте окрылило надеждами членов Парижского совещания. В этом восстании они увидели подлинное народное движение, в противоположность Белому, как реакционному, обреченному на провал. Но прошло тридцать дней, и восстание было подавлено. Были подавлены также и крестьянские бунты, вспыхивавшие то тут, то там в разных концах России. И в довершение всего постановление центрального комитета партии эсеров в Москве признало: «Пролетариат городов в настоящее время занят прежде всего вопросом прямого спасения своей жизни от голодной смерти».
«Крайне ослабленная организационная распыленность, усталость от борьбы, аполитизм, недоверие к своим силам – вот те черты, которые, к сожалению, так сильно запечатлелись в настоящее время на лице городского рабочего. В трудовом крестьянстве точно так же сильно подорвалась вера в партии и политические группировки. Оно еще в большей степени охвачено аполитическими настроениями». Далее осуждаются «стихийные выступления трудящихся масс». «П.С.Р. в современной обстановке должна решительно высказаться против лишь разоряющих страну и ослабляющих фронт трудящихся стихийных повстанческих движений, против партизанщины, против голодных бунтов в городах» и пр.
Таким образом, ожидание, что изнутри России поднимется мощная волна народного негодования, которая сметет большевизм и расчистит путь на Москву, оказались теми же тщетными надеждами, какие и раньше высказывались – «народ придет», «народ скажет», «народ возьмет», и являлись лишь свидетельством собственной неспособности к каким-либо активным действиям. Таковы были те живые силы, которые думал объединить и возглавить Милюков и которые, будучи связаны с революцией, заключали в себе все будущее России.
Теперь, когда все это стало достоянием истории и вся несостоятельность новой тактики Милюкова столь явно обнаружилась, многие из участников Парижского совещания, по всей вероятности, не стали бы слишком настаивать, чтобы в их биографиях было упомянуто о тех днях, когда они выступали со своими заявлениями в парижском собрании в январе 1921 года.
* * *
Струве и Бернацкий в Париже принимали все меры к образованию внепартийного комитета для заведывания делом помощи русским, согласно настоянию французского правительства. Финансовые круги уклонялись от участия в том деле, которое не обещало ничего, кроме тяжелой ответственности, бесконечных нареканий и неприятностей. Только в начале января удалось, наконец, составить так называемый деловой комитет из представителей армии, финансового союза, банковских деятелей, Красного Креста, городского и земского союзов.
Комитет этот, однако, не встретил сочувствия во французском правительстве, так как оно не было склонно считаться с представительством Русской армии, и в вопросе о ликвидации имущества, полученного от генерала Врангеля, держалось своих особых взглядов, идущих вразрез со взглядами комитета. Комитет в своей декларации, поданной французскому правительству, определенно выступил в защиту русских интересов и против присвоения иностранцами русского имущества, находившегося в их руках.
С приездом в Париж Бахметева31, посла Временного правительства в Америке, дело приняло сразу другой оборот. 2 февраля 1921 года находившиеся в Париже Гире32, Маклаков33 и Бахметев при участии Бернацкого собрали совещание, на котором было признано, что армия генерала Врангеля потеряла свое международное значение и Южно-русское правительство с потерей территории, естественно, прекратило свое существование. При всей желательности сохранения самостоятельной Русской армии с национально-политической точки зрения разрешение этой задачи встречается с непреодолимыми затруднениями финансового характера. Все дело помощи беженцам надлежит сосредоточить в ведении какой-либо одной организации. По мнению совещания, такой объединяющей организацией должен быть Земско-городской комитет помощи беженцам. Единственным органом, основанным на идее законности и преемственности власти, объединяющим действия отдельных агентов, может явиться совещание послов.
В силу этого и было принято решение образовать в Париже под председательством старшины дипломатического представительства М.Н. Бирса совещание послов с устранением представительства Главного командования, с финансовым комитетом, при участии Бернацкого, отказавшегося к тому времени от представительства Русской армии, и князя Львова34 в качестве уполномоченного Земско-городского союза.
Что же представлял собою Земско-городской союз, этот единственный орган общественного представительства, с которым считалось посольское совещание, включив его председателя, князя Львова, в свой состав? В Париже несколько месяцев перед тем было организовано частное общество, занявшееся делом самопомощи, приобретшее типографию для своих изданий и т. д. Общество это называлось Земско-городским объединением; в его состав входили все земские и городские деятели, выбранные на последних выборах прямой подачей голосов, все же остальные земские деятели, так называемые цензовики, допускались только по баллотировке. Вот это-то объединение, возглавляемое князем Львовым, и явилось инициативной группой, созвавшей в Париже, в конце января, съезд организаций земского союза и городского союза, действовавших в то время за границей в Лондоне, Нью-Йорке, Константинополе, Берлине и других городах.
Накануне созыва съезда в общество, именуемое Земско-городским объединением, были выбраны Милюков и Керенский, с целью, очевидно, подчеркнуть полную аполитичность. На съезде был выбран Земско-городской комитет помощи беженцам, как было объявлено в газетах, являющийся единственно полномочной за границей центральной организацией. В состав комитета были выбраны 30 членов. Все это были имена, за исключением трех или четырех, совершенно неизвестные земской России, а имена же Винавера, Минора, Рубинштейна, Коновалова и прочих явно свидетельствовали, что подбор людей в Земско-городской комитет делался вовсе не по признаку заслуженного авторитета в земской среде, а по совершенно иному основанию, а именно по скомпрометированности в революции, как говорил Милюков.
Таким образом, под флагом Земско-городского комитета, возглавляемого князем Львовым, укрылась группа лиц, использовавшая вывеску чужого заслуженного имени для своих собственных целей. Князь Львов, так же как и во время своего злосчастного председательствования во Временном правительстве, оказался во главе и вновь под контролем так называемой революционной демократии. Был сделан общественный подлог, было приобретено расположение американского и французского общественного мнения, но с русским обществом не сочли нужным считаться.
Что значило русское общественное мнение? Ведь русские были признаны беженской массой, ничего не значащей величиной в глазах демократических верхов, к тому же реакционно настроенной, а в силу этого и не заслуживающей никакого внимания. Так сложился высший орган попечения о русских за границей, якобы аполитичный, в действительности же находившийся под контролем политической группы левого направления, хозяйственный орган, стоивший на свое содержание значительных сумм, расходовавший средства по своему усмотрению с полным игнорированием армии. Этот орган попечения о русских беженцах, созданный по настоянию французского правительства, не мог пользоваться доверием в русской среде, вместе с тем он не приобрел и авторитета в глазах иностранцев. Пожертвования на нужды русского беженства не притекали в кассу Земско-городского комитета, а армия благодаря такому направлению политики была оставлена без поддержки и без средств.
Быть может, в той обстановке, которая сложилась в Париже, при вздутых демократических настроениях, господствовавших в то время, и трудно было создать какой-либо иной орган русского представительства за границей, но все те, кто был связан с армией, не могли не почувствовать, что вслед за левой общественностью и посольское совещание отвернулось от армии, и сделано это было под давлением иностранной державы, в то самое время, когда с таким отчаянием армия боролась за свое существование.
* * *
Мысль о создании единого центра русского представительства за границей возникла тотчас же после оставления Крыма Русской Армией. Однако попытки осуществления такого национального объединения в Париже, наподобие чешского и польского во время мировой войны, потерпели крушение, выродившись в ряд враждующих между собою отдельных групповых представительств: Учредительного собрания, Парламентского, Земского, Торгово-промышленного, а впоследствии правых монархических организаций и Национального Союза. Получился разброд, а не единство.
Необходимость создания общественного центра, находящегося в связи с армией, сознавалась в Константинополе и получила свое выражение в образовании Русского Совета, состоявшего из выборных представителей от парламентских комитетов, земских и городских организаций, торгово-промышленных и финансовых кругов, а также из лиц, приглашенных Главнокомандующим.
Хотя в Константинополе борьба за армию, полная трагизма, происходила на виду у всех, тем не менее только по истечении нескольких месяцев, с преодолением многих трений, удалось, наконец, организовать и открыть Русский Совет. Трения эти происходили потому, что и в константинопольской общественной среде были течения если не враждебные по отношению к армии и к ее Главнокомандующему, то и не такие, которые могли бы слиться в одно русло. Пережитки прошлого, интеллигентская отчужденность от армии и военной среды, наконец, роль, сыгранная некоторыми в революции, отталкивали их от сближения с военными кругами.
Психология таких общественных деятелей двоилась. Они признавали армию, но что они больше признавали – армию или так называемые завоевания революции, оставалось невыясненным; их непреодолимо тянуло к левым течениям, более родственным для них, и отталкивало от того, где им мерещились правые настроения. Одних обольщало то, что другим было ненавистно. Значительное же большинство, как и всегда, в своем поведении руководствовалось тем, где можно лучше устроиться, и психологию свою приспособляло к создавшейся обстановке. А так как в это время, под давлением французского правительства, уклон совершился в сторону Земско-городской организации, державшей в своих руках денежные средства и назначения на места, и напротив, быть на стороне армии – значило подвергать себя ударам, то естественно, что большинство предпочитало держаться в стороне от центра напряженной борьбы и не становилось определенно ни на ту, ни на другую сторону.
И если в Константинополе тем не менее создалось общественное представительство, всецело ставшее на сторону армии, то произошло это потому, что нашлись такие люди из русской общественной среды, которые были связаны с армией кровными узами, сжились и сроднились с нею. Они и образовали то крепкое ядро, вокруг которого сгруппировался Русский Совет.
Конечно, Русский Совет не оправдал ожиданий тех, которые надеялись найти в нем центр русского национального объединения за границей. Он и не мог сделаться таким центром. Константинополь был слишком удален от Парижа, где разрешались все вопросы международной политики, печать находилась под строгой цензурой оккупационных властей; наконец, многие из членов Русского Совета, проживая в других странах Западной Европы, не могли принимать в нем участия, и по необходимости Русский Совет замкнулся в сравнительно тесный круг Константинополя.
И тем не менее Русский Совет, несмотря на все затруднения, сыграл значительную роль в деле организации русского общественного мнения за границей. Такого центра, в котором объединялись бы самые различные политические направления, не сложилось ни в Париже, ни в Берлине; он сложился только в Константинополе. Никогда и тени партийного разногласия не замечалось в заседаниях Русского Совета. А там сидели рядом друг с другом Г.А. Алексинский, наводивший ужас своими выступлениями во II Государственной думе, и Шульгин, бросивший обвинение к сидевшим на левых скамьях той же II Думы, «не принесли ли они с собой в карманах бомбы», князь П. Долгоруков, представитель конституционно-демократической партии, одно имя которого было ненавистно для правых, и правые В.П. Шмит и граф Уваров, к которым столь же враждебно относились в кадетских кругах, товарищами председателя были – И.П. Алексинский, народный социалист, и правый – граф Мусин-Пушкин. Соединить всех на одну дружную работу при такой злобной партийности, которая раздирала русское общество, можно было только благодаря тому, что члены Русского Совета подчинялись высшей задаче – служению Русской армии. И в этой работе, которой все одинаково были преданы, партийные разногласия смолкали.
В политической борьбе, в отстаивании Русской армии, как против нападок левых, так и против иностранного посягательства, Русский Совет оказал всю свою поддержку общественного представительства Главнокомандующему. В этой тяжелой борьбе армия не была оставлена одна. В то время как другие партийные организации стремились подчинить своему влиянию армию, сделать из нее орудие своих партийных достижений, только Русский Совет, в своей согласованной работе с Главнокомандующим, сумел осуществить единство общественных сил и представительства армии, столь необходимого при полном разладе в русской эмиграции.
* * *
Милюков достал деньги от тех парижских кругов, которые считали нужным поддерживать демократическую политику, сводившуюся, в сущности, не к борьбе с большевизмом, а к противодействию Белому движению, из опасения, как бы борьба против большевиков не привела к восстановлению старого строя с его полицейским режимом, притеснениями евреев, инородцев и пр. Вместе с Винавером он стал издавать «Последние новости» и получил, таким образом, в свои руки орган печати в Париже.
Изо дня в день в газете писались статьи, дискредитировавшие армию и Главнокомандующего, помещались обличительные заметки и разоблачения за подписью целого ряда имен офицеров, совершенно так же, как это после делалось в сменовеховских изданиях, сообщались сведения, полученные из французских источников и оказавшиеся затем ложными, о том, например, что генерал Врангель сложил с себя власть и Главное командование и оставил армию и т. д. Словом, это была работа упорная и последовательная над разложением армии, работа тем более пагубная, что она шла как раз в русле французских правительственных стремлений отделаться так или иначе от Русской армии.
Во главе французского правительства встал политический делец Бриан. Он очень скоро подпал под влияние Ллойд Джорджа, обольщенный блеском таланта британского премьера. Правда, в правительственном заявлении Бриана в первый раз с парламентской трибуны были признаны заслуги Русской армии в мировой войне, но это нисколько не помешало новому министерству принимать такие меры против последних остатков той же Русской армии, которые совсем не вязались с чувством благодарности за помощь, оказанную для спасения Парижа. Французская политика пошла на поводу у Ллойд Джорджа, а этому последнему русские военные части на берегу Босфора мозолили глаза, служа помехой для заключения торговой сделки с большевиками.
В январе ушел командующий оккупационным корпусом генерал Нейрталь де Бургон, оставивший по себе самую лучшую память среди русских. Он уехал во Францию на свою ферму, о которой всегда мечтал, тяготясь разлукой с родиной. Его заменил штабной генерал Шарпи – полная противоположность своему доброму и сердечному предшественнику. Сухой, раздражительный в обращении Шарпи был точным, до педантизма, исполнителем предписаний своего начальства и строгим, взыскательным начальником в отношении к своим подчиненным. К нему перешло дело русского беженства и военных контингентов, и он проявил все бессердечие штабного бюрократизма в таком вопросе, где болезненно ощущалось тысячами людей каждое жестокое прикосновение к незажившим ранам. Но какое дело было французскому генералу до страданий людей, раз бумага за № должна была быть исполнена.
14 января был издан совершенно секретный приказ, подписанный Шарпи, ясно характеризовавший как самого человека, так и то направление, в котором он намерен был вести русские дела. Приказ этот объяснял, что одной из главных задач в настоящее время является возможно скорейшая эвакуация на постоянное жительство русских беженцев, как гражданских, так и военных, и далее содержал в себе предписание комендантам лагерей тех мер, какие должны быть приняты для осуществления этой цели.
В конце приказа уже откровенно признавалось, что при проведении этих мер нужно лишь стремиться, чтобы не очень резко противодействовать распоряжениям русского командования, которое, по словам приказа, имеет намерение задерживать русских в рядах армии «путем убеждения, интриг и даже насилий», «так как нам действительно необходимо, чтобы русское командование сохраняло известный авторитет для того, чтобы помочь нам поддержать порядок и дисциплину, но при условии, если этот авторитет не препятствовал бы нам в деле эвакуации беженцев».
С этого дня и началась та недостойная политика подтачивания и развала Русской армии, которая так соответствовала намерениям большевиков. И соучастником такой политики явился Милюков со своими «Последними новостями». Для Милюкова нужно было свалить генерала Врангеля, как политического противника, точно так же, как для Ллойд Джорджа нужно было ликвидировать русские военные части в окрестностях Константинополя для целей своей политики, а для Бриана – чтобы удобнее сойтись с Ллойд Джорджем в вопросе о германских платежах. И никому из них не было дела до живых людей с их человеческими чувствами, страданиями и несчастьем.
На совещании с представителями константинопольского парламентского комитета генерал Врангель говорил: «Я ушел из Крыма с твердой надеждой, что мы не вынуждены будем протягивать руку за подаянием, а получим помощь от Франции, как должное, за кровь, пролитую в войне, за нашу стойкость и верность общему делу спасения Европы. Правительство Франции, однако, приняло другое решение. Я не могу не считаться с этим и принимаю все меры, чтобы перевести наши войска в славянские земли, где они встретят братский прием. Конечно, я не могу допустить роспуска Русской армии. Но никаких насильственных мер для задержания людей в военных лагерях я не принимаю. Если и есть полицейские меры запрещения въезда в Константинополь, то они принимаются союзными властями для ограждения от чрезмерного наплыва безработных. Я вовсе не хочу во что бы то ни стало задерживать людей в армии. Но я не хочу, чтобы люди уходили из армии, проклиная свое прошлое, с чувством досады и раздражения, махнув на все рукой, я хочу, чтобы они навсегда сохранили с армией свою связь, всегда чувствовали, что они принадлежат армии и готовы войти в ее ряды, как только явится возможность».
В Константинополе появились уже большевистские агенты, торговая миссия открыла свое отделение при покровительстве англичан. И тотчас же почувствовалось их тлетворное влияние на русскую среду; соблазн крупных барышей от доставки товаров на Юг России уже стал охватывать торговые круги Константинополя. То один, то другой соблазнялся коммерческим расчетом и забегал в большевистскую контору. Зараза стала охватывать людей. Моральная болезнь – потеря сознания, что можно и чего нельзя, честного и бесчестного.
Стали появляться и агенты, пропагандировавшие возвращение на родину русских беженцев. Некто Серебровский переманивал людей на работы в Баку, соблазняя высоким заработком. И французские власти, так же как и англичане, не постеснялись воспользоваться услугами таких большевистских агентов, лишь бы снять со своего пайка как можно больше ртов. По всем беженским лагерям развивалась пропаганда возвращения в Россию.
В январе французское командование приняло решение переселить донской корпус из района Чаталджи на остров Лемнос. Казаки уже устроились на отведенном им месте, расселились в землянках и палатках и своим трудом обставили вполне сносно свое жилье. Им не хотелось переезжать на остров Лемнос, памятный еще по первой английской эвакуации после Новороссийска, когда русские вымирали там целыми семьями. К тому же было получено известие, что с первого февраля французы прекращают выдачу пайка. Несмотря на настоятельные указания генерала Врангеля, Шарпи все-таки упрямо настоял на своем и издал от себя приказ о выселении казаков из Чаталджи. Последствия тотчас же сказались. Казаки с оружием в руках, лопатами и кольями разогнали присланных чернокожих французских солдат, и с обеих сторон оказались раненые.
Только тогда французские власти поняли свою ошибку и обратились к генералу Врангелю, прося его отдать приказ казакам о переселении на остров Лемнос. Приказу Главнокомандующего донцы подчинились, и переезд на Лемнос совершился в полном порядке. Однако политика французского командования не изменилась. В начале февраля комендантами лагерей были сделаны объявления о записи желающих возвратиться в Советскую Россию. При этом распространялись сведения о принятых якобы французским правительством мерах получить для них от советов гарантию их личной безопасности, вместе с тем для понуждения к выселению всюду были вывешены объявления, что выдача пайка должна в ближайшее время прекратиться, так как Франция не может без конца держать русских на своем продовольствии. Понятно, какое действие на людей, измученных и полуголодных, должны были производить подобные заявления французских властей. Из числа беженцев, пожелавших выехать, оказалось свыше 1500 человек и столько же из строевых казачьих частей. Первая отправка в Новороссийск состоялась в середине февраля.
В тех же числах штабом французского оккупационного корпуса было доведено до сведения Главнокомандующего и одновременно сообщено комендантам лагерей для осведомления русских о сделанном Бразилией предложении принять желающих туда эмигрировать. В сообщении указывалось, что штат Сан-Паоло объявил французскому правительству о своем желании принять до 10 000 русских переселенцев. Эмигрирующим предполагалось предоставить средства на переезд, землю для колонизации, денежные авансы для начала работ. В дальнейшем штат Сан-Паоло высказывал готовность принять и вторую партию такой же численности.
Сообщения эти оказались лживыми. Никакой гарантии личной безопасности для возвращающихся на родину со стороны советского правительства дано не было. Первая же партия, прибывшая в Новороссийск, была подвергнута жестоким насилиям, о чем известили несколько казаков, бежавших и возвратившихся оттуда в Константинополь. Точно так же и в Бразилию русские вовсе не принимались в качестве земледельцев-колонистов с наделением землей, а как рабочие, закабаленные кофейным плантатором штата Сан-Паоло.
Уже с лета в России обнаружился страшный голод, доведший людей до пожирания трупов и человеческого мяса, а в Бразилии русские оказались запроданными, как негры, плантаторам. Ясно, какое бережное отношение к людям, отдавшим себя под покровительство Франции, выказали французские власти.
В сложном механизме парламентской машины, в ожесточенной борьбе партий, среди криков прессы и шума Парижа что значила судьба нескольких тысяч русских, обреченных на голодную смерть или на рабство? Ведь они были ничтожной величиной в сложнейших проблемах европейского мира. И мог ли уделить им внимание Бриан? И разве способен был проявить участие к людям генерал Шарпи, когда он имел перед собою точное предписание за № и подписью своего начальства, а подчиненные генерала Шарпи разве осмелились бы когда-нибудь не исполнить то, что им приказано? Они были бы немедленно удалены со службы. И генерал Бруссо, комендант на острове Лемнос, в своей исполнительности дошел до пределов жестокости к тем самым людям, с которыми он был в самых близких отношениях в штабе русского Верховного Главнокомандующего во время мировой войны. И появилась ли хотя слабая краска стыда у издателей «Последних новостей»? Ничуть, они продолжали вести свою линию и заслужили одобрение министра-президента Бриана, ссылавшегося на их мнение, как серьезных политиков, в подкрепление своего отношения к Русской армии.
В первой половине марта Верховный комиссар Франции поставил Главнокомандующего в известность о решении французского правительства отправить в Советскую Россию новую партию 3–3,5 тысячи человек и желании его усилить эвакуацию русских из лагерей. При этом он уведомлял, что правительство республики стоит перед решением прекратить в ближайшее время всякую материальную поддержку русским. С этого времени французское командование начинает оказывать настойчивое давление в целях заставить Главнокомандующего подчиниться требованиям французского правительства.


