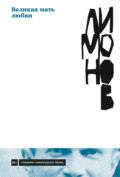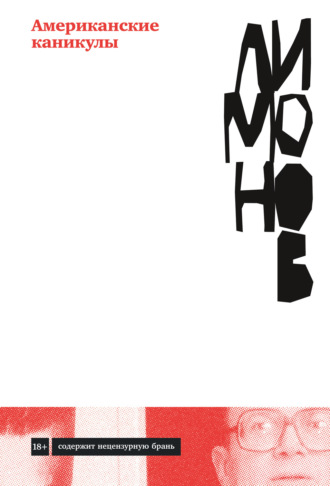
Эдуард Лимонов
Американские каникулы
Американский редактор
Издатели, редактирующие книги, – это особые существа.
«Вот тут у вас очень хорошо, но нужно убрать». – «Почему же убрать, – спрашиваю, – если хорошо?» – «А потому, – говорит она, – что этот эпизод, около двух третьих главы, уничтожает структуру». – «А мне положить на структуру», – говорю я. «Нельзя, – говорит она. – Вы в этом куске переносите действие в Калифорнию, тогда как все остальные действия происходят в Нью-Йорке». – «Что же, им теперь и поехать никуда нельзя, даже на вокейшен[18], бедным моим героям?» Нет ответа. Очевидно, нельзя.
«И у вас слишком много сексуальных сцен в книге…» – «Но мой герой сексуальный маньяк». – «Хорошо, но оставьте ему двух девочек, достаточно. У вас же их слишком много, вы повторяетесь, герой повторяется». – «Да, но если я оставлю ему только двух, то какой же он сексуальный маньяк?..»
«Политические речи нужно убрать. Герой мыслит ужасно наивно». – «Да, – соглашаюсь я. – Я извиняюсь, у него радикальные взгляды, и вообще он психопат и анархист». «Нельзя, его высказывания несерьезны». – «Ну пусть будут несерьезными, он же не министр финансов в роговых очках, он сексуальный маньяк и авантюрист – пусть поговорит». – «Нет, речи нужно убрать». – «Ок. Может быть, уберу речи».
«Вот тут скучно – нужно все убрать». – «Почему же скучно? – спрашиваю. – Герой издевается над героиней… Она строит планы на будущее вместе с ним, он поддакивает, а в то же время внутренне подает совершенно иные реплики. Он негодяй, но веселый негодяй. Он использует героиню. По-моему, это смешно…» – «Нет. Ужасно скучно». «…Может быть», – думаю. Беру у редакторши рукопись и иду домой. Читать.
* * *
Поездка героев в штат Вирджиния к ее родителям. Редакторская пометка на полях: «Много интересного здесь, но лучше было бы убрать эту линию. Может быть, очень быстро пересказать эту поездку?»
«Почему "лучше было бы убрать", если "много интересного"? Опять карантин, нельзя уезжать из Нью-Йорка? И как это быстро пересказать? Телеграммой? Двумя? Стенографически?»
«Вообще, тема героини – просто смерть. Читать про нее любые вещи – скучно. Не знаю, что посоветовать, убрать эту линию почти невозможно, и, как идея, она нужна, но она заставляет читателя зевать. Я предлагаю сильно сократить все, что с ней связано».
«Герой с ней связан. Может быть, сократим героя? – зло думаю я. – И потом, если разобраться, мы все скучные – герои, авторы. Едим, работаем, ебемся, гуляем… Чего ж тут веселого? Чего она от нас хочет? Что мы должны делать, чтобы ей было весело?»
В одном месте мой герой говорит: «Я несколько раз пытался ее убедить поебаться со мной…» На поле быстрая приписка редактора: «Совсем ненужные сведения». «Не согласен, – размышляю я. – По-моему, самые что ни на есть нужные».
Герой работает поваром в ресторане. Реакция редактора: «Следует убрать эту историю, а жаль». Автор уже привык к тому, что следует убрать ту или иную историю и что жаль. Начинает постепенно выясняться идеал редактора – редактор явно предпочитает героя, который бы как можно меньше двигался. Желательно даже, чтобы он вовсе не выходил за дверь своего дома. В книге есть пятистепенный эпизодический персонаж в инвалидном кресле – Энтони. Автор думает, а не сделать ли ему Энтони героем книги, чтобы угодить редактору. Уж Энтони-то не полетит в Калифорнию и не поедет автобусом в Вирджинию, и в ресторан его поваром не возьмут, и таким образом можно будет избавиться от героини – здоровой американской девки с большой пиздой. Ей явно нечего будет делать с начисто парализованным Энтони. Даже в карты играть не смогут.
Привязанность редактора к месту жительства героя невероятна. Страница 163 – герой на Шестой авеню и Девятой улице остановлен членами сексуальной коммуны, которые хотят взять его к себе. «Наши девочки обратили на вас внимание…» – объявляет бородатый юноша-коммунар герою. Близок желанный миг… Но редактор не дремлет, она уже тянет героя за рукав. На полях невероятная пометка: «Пора вернуться к дому!» Ни хуя себе!.. Не дает герою погулять. Никаких сексуальных коммун, иди домой, ишь ты, распустился. Остановился на углу и пиздит, блядь такая!
Почти единственный раз, когда редактор просит что-то включить, а не убрать, касается момента, когда герой торопится в бар. Заметка на полях гласит: «Включить здесь намек на разные неудачи»… Почему?! Что, он не может просто так пойти и выпить? От радости.
Впрочем, извиняюсь, есть еще один случай, когда редактор просит добавить, а не убрать: эпизодическая встреча героя и героини с братом героини – музыкантом и наркоманом Майклом. Редактор заинтересованно написала на поле: «Добавить все про его наркотики. Здесь кратко». «Чего это она? Может, она сама наркоманка, а может, хочет с братом Майклом познакомиться?» – подумал я. Возможно, ее заинтересовали те интригующие начальные сведения, которые я о нем сообщил в книге? «Коротко, под полубокс остриженные темные волосы. В темной тишотке и кожаном пальто, надетом прямо на тишотку, – хулиганский шик. Два-три бритвенных пореза на шее, лицо негладкое, но сурово-красивое, мужское…» «Может быть, она в садомазохизме?» – подумал я.
Нет, она – нет. На странице 180 она безжалостно выбросила из жизни лысую еврейскую девочку в парике. Сэру-то за что? По-моему, она милая… Заодно выброшены и все друзья Сэры, в том числе и садист Рафаэль – великолепный экземпляр, украшение моего романа. «Убрать!» – написала безжалостная. «Как фашистка, – подумал я. – Издевается…»
Постепенно людей вокруг героя становится все меньше. Из общительного распиздяя, каковым я его задумал и создал, в результате непрерывной деятельности редактора он становится одиноким мизантропом. Он никуда не ездит, не выходит из дому, никого не видит. В угоду редактору он едва ли ебется раз в полгода, хотя до этого не мог без секса дня прожить.
«Из служанки не сделаешь даму!» – сказано у меня со вздохом на 220-й странице. Эта фраза подчеркнута, не вычеркнута, а на полях стоит редакторское женское недоуменное восклицание: «Звучит странно, и в Америке очень неубедительно. Желание стать дамой нужно, кажется, больше всего!»
Какие мы с моей редакторшей разные, думаю я со вздохом. По-моему, по-русски, хуй ты станешь дамой, если у тебя внутренний мир служанки, с которыми ты родилась где-нибудь в штате Южная Дакота. Если у тебя руки, и ноги, и жопа служанки… Пальцы и ногти… Леди невозможно стать, леди нужно деликатно и тихо родиться, думаю я с нежной жалостью к моей редакторше, которая этого не знает. Об этой невозможности и мой роман написан – герой моего романа пытался всеми силами сделать из своей служанки леди, но увы… И служанка очень хотела, но никакое, даже самое сильное желание тут не поможет. Американцы верят, что все возможно, что достаточно выйти замуж за фабриканта носков, или нижнего белья, или кетчупа, чтобы стать леди. Они молодая нация – они бодрые и энергичные. Я не верю. Куда мне. Я даже не могу себя заставить бегать по утрам, чтобы дольше жить. Я пью, я алкоголик.
А вот и вовсе чудовищная акция. Хладнокровно перечеркнута вместе с другими страницами моя радость и гордость: сцена, в которой герой встречает «девушку в шеншелях» – мечту всякого мужчины. Встречает на огромном, залитом солнцем гольфовом поле, на берегу океана, где происходит выставка красоты автомобилей. Чудовище-редактор даже не соизволила написать: «Хорошо тут, но нужно убрать» или: «Много интересного, но убрать». Нет. Перечеркнула, и сердце не дрогнуло. Выброшены без сострадания трогательные жалобы героя: «С любовью к красоте, думаете, легко ли было мне жить в отеле "Дипломат", где самым красивым были лица пимпов, здоровыми, во всяком случае? Думаете, легко ли, преклоняясь перед красотой, было мне ебать румынскую танцовщицу Рену с обезьяньим ликом…» Мой гимн красоте ее не тронул, не остановил. Ей важна структура. Герой произнес свой гимн в Калифорнии, без разрешения редактора покинул свой боевой пост в Нью-Йорке, а все сказанное в Калифорнии – табу для него. Ему не позволяется туда ездить.
Даже на север штата Нью-Йорк не позволено отлучаться герою. И когда он становится, по несчастью, землекопом, ему ничего другого не оставалось делать, у него не было другой работы, в стране же был кризис, недремлющий страж-редакторша вычеркивает его пребывание в ста милях на север от Нью-Йорка и возвращает беглеца в Новый Вавилон. «Начать отсюда!» – сурово указано мне на странице 228.
На странице 232 меня неожиданно поощрили. «Хороший конец!» – сказано по поводу следующих строк: «Очнулся я у себя в постели на 83-й улице. За моим плечом, обнимая меня, спал Лешка. Вот так, господа, мечтал человек оказаться в постели с бразильской красавицей, а вместо этого проснулся вместе с седым здоровенным гомосексуалистом…» По-моему, ничего хорошего. Грустно. Плохой конец. А может, она ненавидит мужчин и радуется, когда у них что-нибудь плохое происходит?
На странице 283 по поводу моего текста: «…втиснул свой хуй в ее уже начинающую склеиваться щель…» – стрелой и восклицательными знаками обозначен командирский окрик редакторши в просвете между строк: «Сократить! Слишком много фактов!»
На странице 284 ей «не нужен Станислав!». «Ей никто не нужен… Ей противны мои герои…» – грустно думаю я.
На странице 326 она ликвидировала мою сцену беседы героя с проституткой в борделе – пародию на известную сцену в «Преступлении и наказании». «Убрать!»
«Ужасно!», «С ума сойти можно!», «Могу жить без этой страницы!». «Есть пословица: "Если хочешь передать мэссидж – иди в "Вестерн Юнион", – имейте это в виду!» Последнее замечание редакторши о «Вестерн Юнион» относится к моменту, когда герой дискутирует с датскими интеллектуалами проблему контроля рождаемости, одновременно помня о том, что должен выебать польскую хозяйку.
Моя кульминационная, заключающая книгу сцена несостоявшегося убийства, по ее мнению, должна быть проведена быстрее. Против самого убийства она, нет, не возражает. Ее не интересуют психологические мотивировки, все мотивировки вычеркнуты ею, она относится к проблеме по-американски: хочешь убить – убей, не раздумывай. Она презирает моего героя, слюнтяя, который не убил в конце концов. Я, просмотрев все ее заметки на полях и между строк, относящиеся к сцене убийства, также начинаю сомневаться в своем герое. «А может быть, мой герой не настоящий мужчина?» – грустно думаю я. «Быстрее надо!» – разумно и хладнокровно замечает редакторша, вонзив карандашную стрелу во фразу «…мои пальцы тихо придвигались к спусковому крючку…».
«Им виднее, – думаю я робко. – У них стрельба в президентов – национальный спорт. Они – профессионалы. Я же – робкий европеец… – думаю я самоуниженно. – Куда мне до них!»
А что же ей – американскому редактору – понравилось в моей книге?.. Только одно поощрение с тремя восклицательными знаками нашел я, опять перерыв свою истерзанную рукопись. Одно только место ей пришлось по душе. Вот оно. Сцена на кухне: «Все мы, сидя на кухне в различных позах, осудили маркизу за ее полиэстеровые брюки и решили, что англичане все же очень провинциальны. Даже лорды».
Двойник
В почтовом ящике – пакет. Адрес отправителя – религиозной организации – американский. Вынул пакет, верчу в руках, не могу понять, какое отношение я имею к ним и откуда они взяли мой адрес. Открыв пакет, обнаружил там книгу. Карманная, на русском языке Библия. Совсем уже решив, что распространители слова Господня добрались до меня случайно – получили мою фамилию и адрес от шутника-приятеля, я все же новенькую Библию перелистнул. И, к удивлению своему, обнаружил на титульном листе следующее посвящение, подписанное именем Джон: «Дорогому Эдварду, в память о нашей встрече, с надеждой на будущее, от его близнеца».
После этого я тотчас его вспомнил. Мой двойник. Преподобный Джон. Обещал обратить меня в свою веру и сдерживает обещание. Не забыл. Упрямый отец Джон.
Приятель организовал нашу встречу в Нью-Йорке.
– Я хочу познакомить тебя с одним любопытным человеком, – сказал Стив и посмотрел на меня вопросительно. И, очевидно, предугадывая мою реакцию, тотчас добавил: – Не бойся, это не будет скучно. Поверь. Приходи ко мне в воскресенье, и он тоже придет. Потом пойдем куда-нибудь пообедаем.
Я не люблю людей. То есть я не люблю человека массового, и массовый мужчина еще ужаснее массовой женщины. Массовую женщину хотя бы можно выебать и нащупать что-то общее. Но, во-первых, я верю вкусу Стива, он меня неплохо знает и знает, как скучны мне нормальные лица, раз приглашает – значит, что-нибудь острое, приперченная личность для меня заготовлена. Во-вторых, даже если и неинтересным окажется экземпляр, я Стиву кое-чем обязан, в частности, публикацией одной из моих первых книг, редактором которой он был. В случае крайней необходимости пострадаю пару часов – я их должен Стиву.
В воскресенье в августе я пришел в квартиру Стива на Сент-Марк-плейс, разумеется, вовремя. Хотя и старался прийти попозже, но пришел первым. Внизу бесконечно, пулеметными очередями стучал дверной автоматический замок. Очевидно, кто-то из жильцов уехал на уик-энд из нью-йоркской августовской бани, каким-то образом навечно оставив кнопку «дверь» прижатой, или нечто испортилось в несложном механизме открывания двери. Стива я застал едва вставшим из постели.
Мы заговорили о чем-то, но ни я не спросил его о другом госте, ни он не старался сообщить мне, кто гость такой и чем он занимается. Наконец раздался звонок в дверь, и Стив, сказав: «Вот и Джон», посмотрел на меня с любопытством.
Вошел человек в таких же, как у меня, очках, одного со мной, пожалуй, роста. Мы представились, он сел за стол. Мы пили вино, и Джон тоже получил бокал. Стив и Джон обменялись несколькими фразами. Стив все время смотрел на меня, чего-то ожидая. Наконец он спросил меня:
– Ты не находишь, Эдвард, что вы с Джоном очень похожи?
Я всмотрелся в человека внимательнее. Нет, он был чужой человек, лицо его мне было незнакомо.
Лишь с большим трудом, напрягшись, я обнаружил в его лице черты моего лица. Нос, губы были те же, строение скул, волосы. Сходство, если оно было, усугублялось, должно быть, одинаковым стилем прически – короткие волосы его были зачесаны назад небольшим коком над лбом, обычная прическа эпохи Элвиса Пресли конца 50-х годов. У меня такая же. И на нем были очки того же стиля, что и мои – в темной пластиковой оправе.
Возможно, мы были одинаковы, но я видел нас разными. Одинаковы физически. Но я его не узнавал до того, как Стив указал мне, что это мой двойник. Дело в том, что я себя представлял другим. С тем же чертами лица, но иным. Я хотел видеть себя иным и видел.
Лицо его мне не понравилось. Если бы я был женщиной, я бы не смог влюбиться в его лицо. В лице его было что-то нехорошее и даже неинтересное. Проглядывало сквозь черты. Это наблюдение смутило меня. Неужели и у меня такое лицо?
Прежде всего, он был здоров. Здоровое лицо.
И ничего, на мой взгляд, изобличающего духовность в нем не присутствовало. Никаких выделяющихся черт. Глаза были почти незаметны. Были заметны очки.
И даже более того – его лицо было лицом неинтересного square[19] человека. Такое лицо могло принадлежать бизнесмену, и даже бизнесмену без особенной фантазии, владельцу, может быть, магазина готового платья, не бутика, а ширпотребной уродливой одежды. Еще оно могло принадлежать инженеру, скажем, инженеру автомобилестроительной фирмы в Детройте. Судя по лицу, Джон был человеком не очень высокого полета.
Только чуть позже, уже в ресторане, куда мы вышли пообедать, до меня дошло наконец полностью, что Джоново лицо не только лицо Джона, но и копия лица писателя Эдуарда Лимонова. Меня это несложное открытие очень поразило. Сидя за столом против своего двойника, потягивая красное вино, я с ужасом вдруг вынужден был тут же пересматривать мои собственные представления о себе и о том, каким меня видят люди. «Неужели я такой же несимпатичный и даже уродливый?! – думал я. – Эти тонкие бескровные губы, вздернутый нос, невидный подбородок и предательская складка под подбородком – следствие унаследованного от матери строения… Да все это не только не эталон мужской красоты, но, скорее, стертый, несвежий эталон мужской посредственности». Я проходил с моим лицом тридцать семь лет по земле и только сейчас открыл, какая же я невыразительная тусклятина.
За вторым блюдом меня бросило в жар, я поминутно вытирал салфеткою со лба холодный пот, хотя хорошо прокондиционированное помещение ресторана не пропускало августовскую липкость к обеду. «Урод! Тусклятина!» – думал я, поглядывая на Джона. Непривлекательнее всего наше лицо выглядело в полупрофиль.
Рядом сидел Стив, хотя и некрасивый, маленького роста человек, но смахивает на Жана Жене. Его лицо очень некрасиво, но интересно. Я бы сменялся лицами со Стивом.
По мере нашего продвижения к десерту настроение мое все более и более портилось. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что Джон, узнав, что я равнодушен к христианству, стал вежливо направлять меня на путь истины, говорить мне о сотворении мира, опровергать дарвинизм, который я и не собирался защищать, и все такое прочее. Нет для меня людей неприятнее, чем «джезус фрикс»[20], – как я их зову. На меня пахнуло ханжеством и чистотой христианских публичных библиотек, куда я порой захаживал скоротать время и погреться в тяжелые для меня первые мои нью-йоркские зимы. Когда же я в конце концов недовольно-скептически огрызнулся на его вежливую христианскую лекцию, он заткнулся, сказав мне, что пришлет мне Библию, и в ответ на мое «спасибо, не нужно» терпеливо объяснил, что если даже я буду заглядывать в Библию только раз в год, это уже будет хорошо и благо.
Я пожал плечами. Мне вся эта история начинала надоедать. Понравилось мне на секунду только то, что отец Джон, отклонив наши со Стивом притязания, заплатил за обед. Пастырь, оказывается, имел и светлые стороны в его пастырском характере.
Выяснилось, что проповедник он профессиональный, что он читает там у себя проповеди в Вашингтоне Д. С. и даже выступает с проповедями по радио. «А почему нет, – подумал я. – Спокойный, сытый отец Джон. Неужели я тоже выгляжу спокойным и сытым – такой неспокойный и не очень сытый писатель Лимонов?»
Я подумал еще, что, интересно, видна ли у меня на лице моя тайная страстишка, мой грешок, видно ли, что я – начинающий садист, а? Тут читателю следует объяснить, что не следует моментально представлять себе писателя Лимонова с клещами в руках, в обагренном кровью переднике, терзающего жертв в подвале Марэ или в нью-йоркском мрачном апартменте. Я имею в виду роль в сексуальной игре, и только, читатель. Доминирующее положение в постели. Дюжина шлепков плеткой там и тут, маска, пара кожаных наручников – только и всего. Я, глядя на отца Джона, пришел к выводу, что ничто в его-моем-нашем лице не выдает моей новой принадлежности к славному ордену садистов. Ничто. «Мы» – обычный человек. Может быть, скорее – отец семейства. «Мы» не похож на ужаснолицых, красивых и мрачных типчиков, терзающих свои жертвы на страницах книг художника Крепакса, скажем, на страницах той же «Истории оф О». Мы не были сэрами Стефанами, о нет!
Я быстро обнаружил, что я запутался. Хотя мы имели одно лицо с преподобным Джоном, это далеко еще не значило, что у нас одни и те же грешки и что отец, задравши свою рясу, упражняется в искусстве плеткохлестания жертв.
Мы вернулись в апартмент Стива и, захватив фотоаппарат преподобного Джона, спустились опять на Сент-Марк-плейс, где Стив стал нас неумело фотографировать. Отец Джон, оказывается, прочел одну мою книгу и интересовался мной, хотел иметь фотографии на память. Занимались они этим делом довольно долго, потому что Стив фотографировать совсем не умел. Отец Джон наводил на меня фотоаппарат, потом возвращался и становился со мною рядом, а Стив нажимал кнопку. Мы снялись в фас, в профиль и еще в дюжине разнообразных поз, подчеркивающих наше сходство.
По окончании фотосеанса Стив откланялся, к нему должен был прийти любовник, и мы с отцом Джоном были предоставлены самим себе. Я спросил его, в какую сторону он направляется, и он ответил, что дел у него никаких сегодня нет и что он хотел бы просто прогуляться по Гринвич-Вилледж. У меня также не было никаких дел, но оставаться долго с ним мне вовсе не хотелось, стало неинтересно. Я сказал, что пройдусь с ним немного, а потом поеду домой.
Мы зашагали, разговаривая о пустяках. Он сказал, что, судя по моей книге, я очень хорошо знаю Нью-Йорк, наверное, мельчайшие улочки знаю, не хочу ли я ему что-либо необыкновенное показать. Я сказал, что я, да, очевидно, знаю Нью-Йорк лучше его, но я потерял интерес к городу, как теряешь интерес к хорошей, но несколько раз прочитанной книге, потому мне не хватает вдохновения для того, чтобы показать ему необыкновенное.
Мы плелись. Он заговорил о том, что пишет стихи. «Но у меня уходит очень много времени на шлифовку каждого стихотворения, – сообщил отец Джон. – В отличие от вас я пишу очень медленно, и к моим 37 (ему было 37) написал едва ли несколько дюжин стихотворений». Я утешил его, напомнив ему, что Кавафи написал за целую жизнь всего лишь маленький томик стихов, однако считается одним из крупнейших поэтов нового времени. Отец Джон с мягкой улыбкой сказал, что он, увы, понимает, что он не Кавафи.
Я продолжал идти с ним, наверное, от лени. Можно было откланяться у первой попавшейся станции сабвея, но я продолжал идти с ним в направлении аптауна[21] по липкому городу. Чтобы было удобнее, я даже снял свою сержантскую, с лычками аэрфорс рубашку и шел рядом с преподобным отцом по пояс голый. Вот тут-то он и заметил, что у меня «красивое тело».
Замечание его заставило меня насторожиться. Как-то он это по-особенному сказал, не как преподобный Джон. Был некий оттенок светскости в его замечании. И еще чего-то… Стив был гомосексуалист. Стив был мой приятель и приятель отца Джона. Ничего удивительного в том, что и Джон мог оказаться гомосексуалистом, я не видел. Но преподобный Джон?! Мне стало интереснее. И я его не бросил, как собирался, у Пенсильвания-стейшен сабвея и не поехал на Коламбус-авеню, где я тогда жил у приятелей, но продолжал идти с ним, и беседовали мы о стихосложении… Отец Джон что-то говорил о пеонах, и я, желая поддержать разговор, прочел ему пару строк, написанных мною, как мне всегда казалось, гекзаметром. «Нет, – возразил отец Джон. – Это одиннадцатисложник…»
Я поглядывал время от времени на него, размышляя, гомосексуалист ли пастырь Господень или нет? Писательское профессиональное любопытство – и только. Я решил во что бы то ни стало расколоть его на признание, и уже на 59-й улице, вблизи Коламбус-Сёркл, продолжая поддерживать в нем уверенность, что я вот-вот уйду, я вдруг предложил ему выпить. «Пива, – сказал я, – выпьем пива».
Проживший всю свою жизнь в бедности, я всегда предпочитаю дешевые развлечения. Я хотел купить пива в супермаркете и сесть, потрепаться на скамейке среди ночного города, попивая пивко. Но мы не нашли открытого магазина вблизи, и отец Джон предложил пойти в бар, у него есть деньги, сказал он, он заплатит. Ок. В конце концов мы уселись в одном из открытых кафе на Бродвее, напротив Линкольн-центра, из тех, что за последние несколько лет настроили на Аппер-Вест-Сайде предприимчивые гомосексуалисты, толпами переселяющиеся нынче из сверхперенаселенного Гринвич-Вилледж в район Коламбус-авеню.
Парень-официант, симпатичное темнобровое шимпанзе, подкатившее к нам на роликах, тотчас объявил нас братьями, и мы с Джоном, поощрительно улыбнувшись друг другу, с ним согласились. Так мы стали братьями. Братья заказали по «Гиннессу».
На третьем «Гиннессе», в первом часу ночи, разговор все еще крутился вокруг поэзии и литературы, в момент, когда патер как раз сообщал мне о своем последнем литературном успехе – несколько его стихотворений появилось в неплохом литературном журнале, – я вдруг, поглядев на него в упор, сказал:
– Отец Джон, простите меня за, может быть, не совсем приличный вопрос, если вы не хотите, можете на него не отвечать, но вы гей[22]?
Пастырь Господень посмотрел на меня без смущения, но со спокойной печалью и просто ответил:
– Да. Но только, пожалуйста, прошу вас, не говорите об этом никому, хорошо? Я не стыжусь того, что я гей, но мои коллеги имеют иное, чем у меня, более узкое представление о любви, и мне не хотелось бы, чтобы они узнали мой секрет. Это будет стоить мне моей карьеры – мне придется отказаться от пастырства и проповедничества, а я, как вам ни покажется это странным, действительно глубоко религиозен.
Отец Джон помолчал немного. Молчал и я, что я мог сказать. Он продолжал:
– Я не просто гей, дорогой мой друг, но педофил… То есть я сплю с мальчиками, и только с мальчиками. Ну вы знаете, очевидно, есть даже специальный термин – вульгарный, нужно сказать, – «куриная дырочка» – чикен хоул[23]. Вот с ними. – Он опять замолчал.
Мы тянули «Гиннесс». Посочувствовать ему я мог, но звучало бы это глупо. Я ждал, когда он продолжит признание. Я чувствовал, что ему этот разговор со мной был очень-очень нужен, может быть, надеясь на такой разговор, он и пришел к Стиву. В конце концов, я был автор романа-признания, герой которого имеет среди прочего и гомосексуальный опыт.
Отец Джон заговорил опять.
– Все это со стороны, очевидно, кажется очень грязным… Невинные дети, соблазненные чудовищем. На деле, если вы решитесь поверить мне, это не совсем так… – Джон проглотил слюну. – У меня за мою жизнь было, если я не ошибаюсь, около четырехсот малолетних любовников. Из них, – он задумался, – я соблазнил, действительно соблазнил, может быть, десятерых… Все остальные рассудительно отдались мне за деньги сами. Продались. Вы думаете, Эдвард, все они геи? Нет, и половина из них не стала гомосексуалистами, когда они выросли. Я переписываюсь со многими до сих пор. У некоторых, поверите ли, уже есть жены, дети, которые так никогда и не узнают эту сторону жизни их мужа и отца. Общество жестоко охраняет такие секреты, по сути дела, не видя ничего предосудительного в самом действии. Ужасной же сделана огласка.
Отец Джон помолчал и добавил:
– Я до сих пор посылаю моим мальчикам подарки и иной раз деньги. Даже тем, кого не видел годами.
Он начал меня удивлять. Эта своеобразная смесь религиозной христианской благотворительности с римским развратом. Мальчики-подростки, которых он когда-то ебал, выросли и стали взрослыми, скрывающими от общества каждый свою стыдную тайну, и он посылает им подарки, деньги, которые, может быть, идут в семейный бюджет. Бред.
– Часто это бедные дети, – сказал отец Джон. – Я покажу вам Виктора, – внезапно заулыбался он и торопливо полез в карман. Вынул бумажник, а из него поляроидную фотографию темноволосого широкоротого подростка, протянул мне.
– Красивый мальчик! – похвалил писатель Лимонов.
– Очень, – нежно согласился Джон. – Его отец рабочий. Они так никогда и не узнали – его семья, его мать и отец, – в каких отношениях я с ним состоял. Его мать до сих пор пишет мне благодарные письма. «Спасибо вам, преподобный Джон, за все, что вы сделали для нашего мальчика». – Джон виновато посмотрел на меня. – Я действительно подобрал его на улице и сделал человеком… Я до прошлого года платил за его обучение в университете, – Джон вздохнул. – Теперь у него есть невеста. К сожалению, он меня никогда не любил, он просто очень любил получать подарки, особенно красивую одежду… Меня он стыдился.
«Да, – думаю я. – Мальчик Виктор, очевидно, жуткая сволочь». Симпатии мои перекочевывают на сторону Джона. Я всегда на стороне любящих. Те, кого любят, обычно ужасный материал, красивые человекообразные подлецы. Тем более что Джон – почти я, мой близнец, мой двойник, у него моя оболочка. Мной овладевает презрительная злость к красивому малолетнему эксплуататору, фотографию которого я все еще держу в руках. «Красивая бездарь! – думаю я зло. – Мы с Джоном некрасивые, но великодушные».
Джон продолжает восхищаться Виктором, нежно говорит о его теле, а для меня мир неотвратимо переворачивается, и переворачиваются все мои представления. Джон из грязного педофила, соблазнителя и развратителя целомудренных детей, каким его в случае «разоблачения» представят любой судья, любая газета, вдруг становится влюбленным мечтателем, нежным и живым человеком, любящим красивое и молодое. Виктор же, его темноволосый ангел, предстает передо мной бездушным вымогателем подарков и денег, стяжателем и подлецом. Да-да, подлецом, потому что настоящий человек, будь он и десяти лет отроду, может ебаться с кем хочет, но не продаст свое тело. Сука Виктор…
Я солидаризируюсь с моим двойником. Он мне теперь нравится. Во всяком случае, у него есть трагедия, есть тайна, есть источник страдания.
– Я веду двойную жизнь, – говорит он со вздохом. – И ужасно устаю от этого. На радио я выступаю под псевдонимом, – добавляет он. – Не дай бог кто-нибудь узнает меня, какой будет скандал! Кроме того, я с тех пор, как переехал в Вашингтон, не позволяю себе любовных связей в этом городе. Для этого я приезжаю в Нью-Йорк. Здесь я анонимен. В отличие от вас, Эдвард, – вдруг говорит он мне лукаво, – я уже не считаю себя привлекательным, потому я всегда плачу за любовь. Я покупаю себе любовь.
«С чего он взял, что я считаю себя привлекательным?» – думаю я.
– Я тоже плачу за любовь, – говорю я, улыбаясь. – Мои партнеры идут со мною в постель в большинстве случаев потому, что я писатель. Им интересно. Я плачу им психологическими, невидимыми, но очень высоко ценящимися в человеческом обществе валютными знаками. Они хотят быть привилегированными, спать с писателем… Если бы я был просто Эдвард, отец Джон, а не Эдвард-писатель, моя постель была бы куда более пустынна.
Он понимает. Он улыбается, и мы вздыхаем. У нас одинаковые лица. У него чуть-чуть иной голос, чем у меня, тембр моего голоса выше. Мы еще раз оглядываем друг друга, уже не скрываясь.
– У вас лучше фигура, чем у меня, – больше мышцы, и совсем нет живота, – замечает он с некоторой завистью.
– Да, – соглашаюсь я. – Но лицо, это лицо.
– Да, увы, – подтверждает отец Джон. – И очки. А вы пробовали носить контактные линзы?
– Угу, – говорю я, – пробовал. Но я много пью – профессиональная болезнь литераторов – и постоянно спьяну теряю линзы. Дорогое удовольствие.
– И я пробовал, – сообщает он. – Но лицо без очков становится отвратительно плоским.
Лицо. Наше лицо.
Мы пьем свой «Гиннесс». Уже два часа ночи, и кафе на открытом воздухе пустеет. Официанты начинают переворачивать стулья и водружать их на столы. Отец Джон расплачивается.