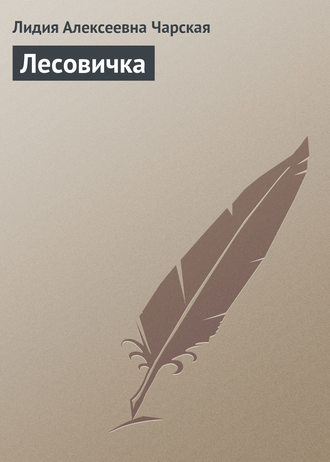
Лидия Чарская
Лесовичка
Часть третья
НА СЦЕНЕ
Глава I
Новые впечатления
– Приехали, детка!
Голос Арбатова звучал весело и звонко.
Ксаня широко раскрыла большие заспанные глаза.
Та же обстановка, что и в последние двое суток, проведенные ею в дороге, те же развалившиеся на мягких диванах спящие пассажиры, тот же вагонный ночник, завешенный зеленой тафтой.
Поезд стоит.
– Что, детка, проснуться еще не можете? – засмеялся Арбатов и тут же стал отдавать распоряжения носильщику.
Широко раскрытыми, недоумевающими глазами Ксаня смотрела в полутьму вагона, моргая длинными, черными ресницами. Ах, какой чудесный она видела сон! Милый, старый лес, его деревья-великаны, его пышные ковры из зеленого мха и цветущих диких незабудок – вот что приснилось ей…
И как неожиданно, как странно было пробуждение! Этот вагон, эти грубо храпящие во сне чужие люди… и зимняя стужа за опушенными снегом оконцами купе.
– Торопитесь, детка, поезд стоит недолго, – слышится снова над ее ухом голос Арбатова, и он предлагает ей руку. Ксаня машинально опирается на эту руку, и оба выходят из вагона.
Едва они опустились на платформу, как их со всех сторон окружил целый десяток мужчин и дам.
– Сергей Сергеевич, батенька! Наше вам почтение!
– Сережа-мамочка! Наконец-то!
– Отцу командиру наше нижайшее!
– А мы тут ждали, ждали, ждали!
– Поезд опоздал на целый час.
– Кущик уже нос отморозил, до того на вокзале досиделись…
– Ха, ха, ха, ха!
Целый поток веселых приветствий, смеха, восклицаний посыпался на выходившего из вагона Арбатова. Его обнимали, целовали, и все это среди самых шумных и бурных речей, самого непринужденного веселья.
Бритые лица мужчин, говоривших как-то особенно и жестикулирующих особенно, нарядные, оригинальные и своеобразные костюмы дам показывали, что все встречавшие Арбатова были артисты и артистки.
Действительно, тут была налицо почти вся арбатовская труппа: толстый Дмитрий Петрович Славин или «папа Митя», серьезный комик труппы, с милым, добрым, бабьим лицом, юркий, как обезьяна; второй комик, морщинистый Кущик, казавшийся скорее старообразным мальчиком, нежели стариком; худой, как смерть, костлявый, с мрачным взглядом, в каком-то невероятном плаще, накинутом на плечи, трагик Доринский-Громов; красивый, с огромным букетом в руках, jeune premier[8] труппы Гродов-Радомс-кий; старуха Ликадиева, которую вся труппа Арбатова называла не иначе как «тетя Лиза» и любила без памяти; тоненькая, миниатюрная Зинаида Долина; затем еще какие-то молодые люди, почти мальчики, веселые, суетливые, особенно крепко трясшие руку Арбатова, – артисты на вторые роли, и барышни-статистки в скромных шубках, потертых шапочках.
Все это окружило Арбатова, приветствовало его, осыпая радостными возгласами.
Скромная фигурка Ксани в черном монастырском одеянии, с большим платком на голове как-то уж слишком резко отличалась от всей этой веселой, суетливой толпы, кипевшей жизнью, шумной и суетливой. Ксаня с удивлением смотрела на эту толпу.
– Давайте знакомиться, детка! – произнес Арбатов, обращаясь к Ксане. Позвольте вам представить, – прибавил он, обращаясь к собравшейся труппе, это та молодая новая артистка, о которой я вам телеграфировал…
Прежде чем могла опомниться Ксаня, десятки рук протянулись к ней.
– Ай, да какая же она красавица! – искренно вырвалось из груди Славина, и он отечески ласково погладил Ксаню по головке поверх ее черного монашеского платка.
– Ну, уж ладно. Язык-то попридержите. Избалуете только девочку! – грубовато огрызнулась старуха Ликадиева и без дальних разговоров обняла Ксаню. – Ты их, деточка, не слушай… Красавица да красавица… А вот услышит это «сама», она тебе пропишет красавицу-то, потому страсть завистлива она у нас!
– Кто завистлив? – хотела спросить Ксаня и не успела.
Великолепный букет белых роз, чуть благоухающих среди морозной ночи, очутился перед нею. Красивый господин в бобровой шапке протягивал его девушке, опешившей от неожиданности.
– Будущему собрату на поприще служения священному искусству от его товарищей! – несколько высокомерным тоном произнес Гродов-Радомский и, театральным жестом протянув цветы Ксане, низко склонил перед нею свою щегольски завитую голову.
– Цветы? Мне? Зачем же? – быстро проговорила она, вспыхнув до ушей.
– Звезде восходящей! Таланту молодому, нетронутому! – пробасил глуховатый голос трагика за ее плечами. – Сергей Сергеевич известил нас телеграммой, что нашел «новое дарование», и вот мы позволили себе приветствовать вас этими цветами, барышня! – и его костлявая рука сжала руку Ксани.
Потом к ней потянулись с приветствием другие руки. Ксаня отвечала на все эти пожатия взволнованная, разгоревшаяся. Но вот неожиданно ее глаза встретились с другими глазами, молодыми, восторженными, голубыми, как южное небо, и чистыми, как оно.
– Душечка! Дайте мне расцеловать вас. Я и не ожидала, что вы такая!
И две тоненькие, почти детские, ручонки обвили шею лесовички, а пухлый детский ротик горячо прижался к ее губам:
– Вы такая прелесть! Такая дуся! Красоточка вы моя!
Это была Зинаида Долина, или, как ее звали в труппе, «Зиночка», занимавшая в труппе Арбатова амплуа т. н. ingenue comique.[9]
Ее искренняя ласка и детски-восторженный поцелуй не оскорбили дикую лесную девочку. Это не были снисходительные ласки графини Наты, желавшей быть только благодетельницей. Нет, в Зиночке Долиной Ксаня почуяла искренний, несколько восторженный, детски-горячий порыв, оттолкнуть который ей было не под силу.
Она позволила маленькой Зиночке поцеловать себя, пожала еще две-три протянутые ей руки и вопросительно вскинула глазами на Арбатова.
Тот так и сиял. Горячая встреча, оказанная труппой Ксане, тронула его до глубины души.
– Я рад! Я очень рад, лесная царевна, – шепнул он ей, – и поцелуи, и розы, и дружеское участие – все налицо. Начало прекрасное! Теперь бы только с «самою» поладить… И еще вашим местопребыванием позаботиться… К тете Лизе вас, что ли, поместить? Тетя Лиза, – окликнул он «старуху» Ликадиеву, – вы нашу Ксению приютите у себя?
– И… и, батюшка, – ответила Ликадиева. – И рада бы, да у меня и без того Кущик и Речков живут, да целая свора мелкой братии. Шумно, неуютно вашей барышне у меня покажется. Уж лучше бы к Зиночке ее пристроить…
Услышав свое имя, Зиночка в одну минуту очутилась подле. Ее миниатюрная фигурка уже протискалась к Ликадиевой.
– Ах, конечно, конечно, тетечка! Да я m-lle… – не знаю их имени и отчества – как солнцу рада… Только вот мои головорезы разве…
– Пустяки! Ты, девонька, с Зиночкой поселишься, – безапелляционным тоном решила Ликадиева, обращаясь к Ксане. – Ну, а теперь марш по домам! Пора и честь знать! Прощайте, братцы, я восвояси.
– Мы вас проводим, тетя Лиза. И мы по домам тоже, – послышалось разом несколько мужских и женских голосов.
– А я вас пойду усажу, детка! – своим бодрым, веселым голосом говорил Арбатов, взяв под руку с одной стороны Зиночку, с другой Ксаню и направляясь с ними в сопровождении всей толпы к выходу вокзала.
Маленький город уже спал, погруженный в непробудную тишину. Несколько сонных извозчиков стояло у вокзала. Арбатов кликнул одного из них, усадил на него Зиночку с Ксаней и уже готовился распроститься с ними, как неожиданно скромный монашеский костюм последней резко бросился ему в глаза.
«Но ведь не может же она ходить в этом подряснике, в самом деле!» вихрем пронеслась его мысль, и, наклонившись к самому уху Зиночки, он шепнул ей:
– Голубушка, не откажите завтра по магазинам поездить и нашу детку приодеть как следует… А все, что будет стоить – это уже дело театра… Вот вам на первый случай, – и он сунул крупную кредитную бумажку в маленькую ручку Зиночки.
– Ну, а теперь, добрый путь! Спите покойно на новом месте, детка! Берегите хорошенько нашу новую звездочку, Зиночка, на вас полагаюсь… Пусть отдохнет наша дебютантка с дороги хорошенько… Завтра репетиция назначена ровно в шесть!
Ванька хлестнул своего поджарого конька, конек бойко затрусил с места, и сани запрыгали по рыхлой снежной дороге.
Глава II
Маленькое гнездышко и его птенцы
– Вот мы и дома! Милости просим, гостья дорогая! – прозвенела птичьим голоском Зиночка и первая выпорхнула из саней, наскоро расплатившись с извозчиком.
Перед Ксаней был небольшой деревянный домик с зелеными ставнями, наглухо закрытыми в эту ночную пору.
– Моя хатка с краю! – сострила Зиночка и нажала пуговку звонка, духом вбежав на низенькое крыльцо.
Ее «хатка» была действительно с краю. Домик, снятый Зиночкой, находился далеко за людными улицами города, где-то у большого пустыря, занесенного снегом, недалеко от церкви и городского кладбища.
На звонок выбежала, со свечою в руке, молодая горничная, она же и кухарка, и нянька, и экономка, как узнала впоследствии Ксаня.
Хозяйка и гостья очутились в крошечных сенях, из которых вели две двери в жилые комнаты.
Горничная не без удивления вскинула глазами на необычайную посетительницу в монашеской ряске.
– Это новая артистка нашего театра. Она будет жить с нами вместе, Глаша, – пояснила Долина служанке.
Глаша приветливо улыбнулась Ксане румяными пухлыми губами и прошла в сени, освещая путь высоко поднятой свечою.
В первой комнате было светло и уютно. На столе шипел чисто-начисто вычищенный самовар, стояла сухарница с булками и кренделями, лежал холодный кусок мяса, очевидно, оставшийся от обеда. Из другой комнаты, соседней со столовой, доносилось легкое сопенье. Очевидно, за дверью сладко спали.
Часть столовой была отгорожена сиреневой занавеской. Зиночка, смеясь, указала на нее Ксане.
– Там моя спальня. Там и вы будете спать со мною! – весело проговорила она. – А теперь садитесь и кушайте хорошенько, что Бог послал.
И говоря это, она проворно, быстро резала мясо, намазывала маслом булки и наливала чай, не переставая в то же время бросать восхищенные взгляды на Ксаню. Та, в свою очередь, мельком, исподлобья поглядывала на хозяйку дома.
Без теплой шапочки и пальто Зиночка казалась еще меньше, и в своем гладком коричневом платьице, с туго закрученной на затылке белокурой косой, совсем уже походила на девочку-гимназистку.
Худенькое личико Зиночки менялось ежеминутно. Когда она смеялась, оно казалось детски, ребячески беззаботным, но вдруг неожиданно облако грусти набегало на него, и тогда Зиночка имела вид болезненной и чем-то опечаленной девочки.
Ксаня смотрела на свою новую приятельницу, и ей казалось непонятным, как мог такой ребенок очутиться среди артистов. Неожиданно для самой себя Марко спросила:
– Как вы, такая молоденькая, девочка почти, крошка, уже попали на сцену?
Зиночка вскинула на нее большие глаза, в которых заиграли и залучились голубые огоньки, и, всплеснув маленькими ручонками, звонко и искренно расхохоталась.
– Ха, ха, ха! – заливалась Зиночка беспечным смехом. – Это я-то крошка? Я-то девочка? Да у меня у самой крошки есть!.. Да!.. есть!.. А вы и не знали?.. Ах, вы – милая, милая!.. Да мне уже двадцать восемь лет стукнуло… Слышите, там за стеной спят мои головорезы. Старшему, Вале, уже восемь, а Зеке четыре… Завтра обоих увидите… А то вдруг девочка! Ха, ха, ха, ха! Чего только не выдумаете, красоточка моя!
И, вскочив со своего места, она бросилась душить Ксаню поцелуями.
И опять гордой, угрюмой лесовичке не показались неприятными эти добрые, простодушные ласки. И не отдавая себе отчета, смуглая рука Ксани легла на шею Долиной, а сильный грудной голос лесной девочки произнес взволнованно:
– Я рада, что попала к вам… У вас так хорошо, уютно и просто… Мне будет приятно с вами, не тяжко… Как на воле… Притворяться не надо… отрывисто проговорила она.
– И я рада! И я! – восторженно подхватила Зиночка. – Вы знаете, душечка, словом не с кем перемолвиться там, в театре… Еще папа-Славин и тетя Лиза добрые люди… А другие так и норовят съязвить, обидеть… А «сама» особенно… Как ехидна, прости Господи, какая… Ее не было на вокзале… Заметили? Куда уж! Гордая, страсть!.. – «Не доставало еще, говорит, того, чтобы я встречать какую-то девчонку ездила!» Это она про вас, милочка, сказала, когда мы все на вокзал поехали вас встречать. Злая она ужасно! Так и шипит! Так и шипит! Она с вами сразу на ножи. Вот увидите, дуся… Да вы не отчаивайтесь… Сергей Сергеевич не допустит… Да и важничать ей, нашей «самой» не придется. Скоро Белая приедет, и тогда ей капут. Придется Истомихе хвост поджать, – увидите сами. Ах, милая, если бы вы знали сколько в нашей актерской среде бывает неприятностей! – прибавила, вздыхая, Зиночка. – Это чистая каторга! Не умри мой Владимир, никогда бы не пошла в актрисы… Но после его смерти я без гроша осталась, ребят кормить было надо… ну и… ну и…
Голубые глаза Зиночки мигом наполнились слезами.
– Воля! Воля! Зачем ты умер?! – неожиданно разрыдалась она, упав на стол белокурой головкой. Слезы так и полились ручьями по ее худенькому личику. Ксаня теперь только разглядела целую сеть мелких морщинок, избороздивших это худенькое детское личико.
В минуту отчаяния Зиночка уже не казалась ребенком. Она блекла как цветок, лишенный солнечной ласки. Целая драма пережитых страданий отражалась на этом лице.
Ксаня растерялась, не зная что делать. Она не умела плакать, не умела и утешать чужого горя. Ей хотелось бы сказать много теплых, хороших слов, которыми так умел утешить ее больную, одинокую душу в минуту тоски и горя старый лес, но лесное дитя не сумело передать той могучей, утешающей ласки, которою щедро оделял ее ее старый зеленый мохнатый приятель. И ей оставалось только смущенно смотреть на бедную, плачущую Зиночку.
– Маленькая мама опять плачет! – неожиданно раздался нежный детский голос за ее плечами.
Ксаня живо обернулась в ту сторону, откуда раздавался голос.
В дверях смежной комнаты стоял черноволосый и стройный мальчик. Он был в одной нижней ночной рубашонке, доходившей почти до его босых ножек, с пылающими от сна щечками, с черными глазенками, в глубине которых дрожали слезы.
Быстро переплетая босыми ногами, он подбежал к Зиночке, обвил руками ее шею и произнес тоном вполне взрослого человека:
– Не плачь, маленькая! Папа с неба увидит твои слезки, и ему будет больно, больно от них… Ты ведь сама так говорила мне и Зеке, когда мы принимались плакать.
Точно действием волшебства иссякли Зиночкины слезы. Она прижала к своей груди ребенка и уже с улыбкой говорила Ксане о том, что она должна жить, должна радоваться, имея на руках такого милого, такого хорошего бутуза. Потом «бутуза» заставили представиться незнакомой тете, «новой актрисе», и счастливая мать в сопровождении Ксани повела Валю в детскую и уложила его в кроватку с синим переплетом. В другой такой же кроватке спал второй сынишка Зиночки, Зека, им самим переименованный из Жоржика в такое странное имя. Этот был так же миниатюрен, хрупок и белокур, как и его маленькая мама.
– Вот оба мои сокровища! – произнесла с гордостью Зиночка, склоняясь над кроватками обоих детей. – Мне есть для кого жить, страдать и трудиться…
И разом оборвала свою фразу, встретившись глазами с хмурым, угрюмым и печальным взором лесовички.
Ксаня вся как-то осунулась и точно потемнела…
Она не знала материнской ласки, она не помнила ее. Она выросла никому ненужной, всем чужой и одинокой… Даже Васю, ее милого названого брата Васю отняла у нее судьба…
В эту ночь, несмотря на нежные заботы Зиночки, Ксаня почти не спала. Прошедшее угнетало ее, будущее страшило своей темной, мрачной пустотой.
Глава III
Первые шаги. – Тучи сгущаются
Как назойливые кровавые мухи лезли на глаза N-ской публики чуть ли не аршинные ярко-красные буквы саженной афиши, вывешенной на дверях городского театра:
Городской театр
ПОТОНУВШИЙ КОЛОКОЛ
Драма-сказка ГАУПТМАНА
В первый раз в нашем городе
При участии в главной роли феи Раутенделейн талантливой дебютантки, шестнадцатилетней
КИТТИ КОРАЛИ-ГОРСКОЙ
Эти огромные буквы бросились в глаза и Ксане, переименованной Арбатовым из Ксении Марко в Китти Корали-Горскую.
Ксаня вспыхнула до корней волос, увидя свое исковерканное имя на афише.
– Зачем это? – вихрем пронеслось в ее мыслях, и она досадливо пожала плечами.
– Чудесно! Чудесно придумано! – восторгалась Зиночка и даже в ладоши захлопала от прилива детского восторга. – Как мило и поэтично: Китти Корали-Горская! Как это звучит прекрасно! Уверяю вас, это звучит как музыка, дорогая моя! Корали!.. Корали!.. Чудо как хорошо!.. Вообще все выходит удачно: и театральная фамилия, которую придумал для вас Арбатов, и костюм, который совершенно изменил вас…
Действительно, костюм, приобретенный в лучшем магазине города N-ска, делал Ксаню значительно выше, стройнее, много красивее и изящнее.
Темная ткань цвета черной вишни выгодно оттеняла смуглую бледность ее лица, а модный, изящный покрой костюма замечательно шел к стройной фигуре прежней лесовички. Черная котиковая шляпа с пером, прикрывая верхнюю часть лица, набрасывала легкую тень на слишком угрюмые глаза Ксани, смягчая их яркий, сверкающий блеск. От изящных ботинок на высоких каблуках она стала выше и казалась совсем взрослой барышней, красавицей в полном смысле слова. Одни только волосы, не поддающиеся никаким усилиям черепаховых гребенок, вольно струились черным каскадом локонов по ее плечам. Однако ловкие руки Зиночки, сумевшие стянуть корсетом и платьем коренастую фигурку Ксани, умудрились-таки соорудить нечто похожее на прическу на голове ее новой подруги.
Когда они обе появились на следующий день в театре на подмостках сцены, весь состав труппы, участвовавший в назначенной на это утро репетиции, был уже там налицо.
Вчерашние знакомые подошли к Ксане здороваться.
Старуха Ликадиева без церемонии взяла ее за плечи, повернула к свету и произнесла, пристально разглядывая ее лицо:
– Вот это я понимаю! Вчера-то я в потемках и не разглядела сослепу… Такие глаза и врать-то не сумеют… Но, девочка, мне кажется, не в нашей трясине болотной твое место… И зачем это тебя Сережа к нам приволок?
У старухи Ликадиевой была особенность всем и каждому говорить «ты» с первой же встречи. Ксаня смутилась таким вступлением, приготовилась ответить, но в это время откуда-то из-под пола показалась запыленная, грязная, вся в стружках фигура Арбатова, с бобровой шапкой на голове, сдвинутой на затылок.
– А-а, детка! Преобразились! Ну-ка, дайте мне взглянуть на себя. Молодцом! Ей-Богу же очаровательно! Совсем настоящей примадонной выглядите! – весело рассмеялся он, очень довольный внешним видом Ксани и тут же еще тише прибавил: – Никто вашего настоящего имени здесь не знает и не должен знать. Вы отныне будете Корали-Горская, а по имени Китти… Запомните!
Он беспечно расхохотался, и его кудрявая голова, посеребренная пылью и естественною сединою, снова скрылась в каком-то провале.
– Колодец для дедушки-водяного устраиваю самолично! – крикнул он откуда-то, уже скрывшись из вида.
Ксане никогда еще не приходилось быть за кулисами, на настоящих сценических подмостках, поэтому теперь она не без любопытства озиралась вокруг себя.
Было грязно, громоздко и неуютно.
То, что казалось таким красивым со сцены: деревья, облака, горы, пейзажи – все это на самом деле представляло из себя грязные, грубо намалеванные куски картона и полотна. Тут же беспорядочно навалены были в кучу в дальнем углу какие-то латы из папки, обклеенной мишурою, мечи, рыцарские доспехи. В противоположном углу стоял довольно потрепанный будуар в стиле Людовика XVI, какие-то замысловатые пуфы, козетки и какой-то вычурный под балдахином туалет. И все это заслонялось внутренностью русской избы со скамьями и лежанкой, с кадкой для воды и, ни к селу, ни к городу, приткнутой сбоку утлой картонной лодкой.
– Что, детка, сокровища наши осматриваете? – послышался Ксане знакомый голос, и курчавая седоватая голова Арбатова вторично неожиданно появилась из-под полу. – Вот вам роль феи Раутенделейн и кстати заодно и сама пьеса. Садитесь и почитайте, и познакомьтесь с пьесою, которую мы будем сейчас репетировать, – весело проговорил он, выпрыгивая с легкостью юноши из своего подполья, и протянул ей объемистую тетрадку.
Ксаня машинально взяла тетрадку и, присев на восьмиугольный кусок дерева, выкрашенный под пень грязно-коричневым цветом, начала внимательно читать.
С первых же строк пьеса несказанно поразила ее и чудным поэтическим своим содержанием, и удивительным сходством героини ее, маленькой лесной феи, – с ней, Ксенией Марко, питомицей дремучих далеких лесов.
Златокудрая фея Раутенделейн живет в лесу, тщательно оберегаемая от людского глазу бабушкой-ведьмой, лешим и старым, толстым дедушкой-водяным, живущим в колодце. Дедушка-водяной могуч, богат и знатен. Ему подвластно все его водяное царство. Но ни власть, ни могущество и богатство не милы дедушке-водяному, если нет с ним малютки Раутенделейн, которую он, старый дедка, давно любит и хочет заполучить себе в жены. Он поднимается со дна своего колодца, кряхтя и позевывая, испускает свое обычное «бреке-ке-кекс» и поджидает к себе красавицу-фею. Красавица-фея – веселое дитя. Она ищет цветов и орехов среди лесной чащи, дурачится со старым лешим и пляшет с подругами-нимфами при лунном блеске вплоть до утра. Она приходит поболтать и с дедкой «бреке-ке-кексом», беспечная и ясная, как летний день. Но ни о замужестве, ни о любви не думает еще маленькая фея Раутенделейн, но вот…
Щеки Ксани разгорелись. Ах, эта сказка про лес и фею, о, как прекрасна она!
Лесовичка читала ее, увлекаясь все больше и больше, и ушла в это занятие всем своим существом.
– Китти!.. Корали!.. Корали!.. Да проснитесь же, милочка! Все ждут вас! – услышала она птичий голосок Зиночки над собою. – Репетиция сейчас начинается.
Ксаня удивленными глазами посмотрела на Долину. Кто это Китти Корали? Какая Китти? Какая Корали? Ах, да ведь это она. Ксаня!
И она быстро захлопывает тетрадку.
Пока она читала здесь, в уголку, сцена приняла новый еще более безалаберный вид. Посреди нее теперь стоял какой-то обрубок, выдолбленный в середине. Вокруг этого обрубка метался Арбатов и, размахивая руками, кричал:
– Папа Митя! Папа Митя! Водяной! Полезай же в колодец… Пока что так репетировать будем, а потом я вам такие декорации загну, что пальчики, друзья мои, оближете… Тетя Лиза, пожалуйте сюда… Вот домик ведьмы… Пока я русскую избу поставлю, но к спектаклю будет хижина из хвойных веток. Плотники скоро ее приготовят. Ну-с, Корали, вам начинать! Читайте прямо по тетрадке.
И взяв за руку недоумевающую Ксаню, он вывел ее на середину сцены и тихо шепнул:
– Ну, помогай вам Бог, моя дорогая!
Последние слова были произнесены так тихо, что Ксаня скорее угадала, нежели услышала их. Да вряд ли что-нибудь слышала и видела теперь лесовичка. Дивный, чарующий, полный недосказанной тайны сюжет поэтической драмы-сказки совсем захватил ее. Она как будто почувствовала себя прежней Ксаней – такой же нимфой Раутенделейн, лесной феей, диким, лесным, сказочно-свободным дитятей. Как умен и дальновиден оказался Арбатов, дав ей для ее первого дебюта эту донельзя подходящую ей роль! Ей, Ксане, не надо стараться делать из нее что-либо. Ей надо только остаться самой Ксаней, прежней Ксаней-лесовичкой – и все. «Старый лес, здравствуй, и снова здравствуй. Я опять возвращаюсь к тебе!» – вихрем пронеслось в ее мыслях, и какая-то волна, уже раз испытанная там, на подмостках княжеского зала, снова захватила Ксаню, глаза вспыхнули…
Она стала читать свою роль по тетрадке ясно, выразительно, с чувством. Все притихло на сцене. Смолкли актеры, болтавшие и громко смеявшиеся в кулисах. Несколько десятков глаз с любопытством впились в дебютантку. Но Ксаня ничего не видела и, забыв окружающих, вся была поглощена своею ролью.
Нахлынула волна и понесла ее куда-то. Куда – неизвестно!.. Шум деревьев, рокот лесного ручья, щебетание пташек – все уже ясно чудилось Ксане, и все это выражалось теперь в ее чтении.
Голос ее то крепчал, то падал, то звенел смехом, загадочным и нежным, как у русалки, красивый, как песня жаворонка, как музыка, как звуки арфы…
И Бог знает сколько бы длилась эта музыка, как бы долго оставались без движения актеры за кулисами и актеры на сцене, завороженные звуками музыки этого голоса, очарованные внешностью, грацией и дикой прелестью молодого, незаурядного существа, если бы громкий, резкий голос не нарушил всеобщего очарования.
– Но это безумие мучить девочку с первой репетиции… И вам не стыдно, Арбатов?
Все головы повернулись в ту сторону, откуда слышался голос. Повернулась туда же и чернокудрая головка словно проснувшейся от своего экстаза Ксани.
В глубине сцены стояла женщина, высокая, полная, лет 38, с золотисто-рыжими, цвета спелого колоса, волосами, выбившимися из-под огромной меховой, отороченной соболями и страусовым пером, шляпы, в тяжелом бархатном платье, с массою браслетов поверх длинных щегольских перчаток. Соболья накидка, небрежно спущенная с одного плеча, волочилась вдоль бархатного шлейфа. Эта женщина была бы хороша собой, если бы брови ее не были так черны, а щеки и губы не были слишком румяны, чтоб казаться натуральными.
Большие, холодные глаза отталкивали своим недобрым выражением. Она так пристально впилась этими злыми глазами в Ксаню, что девушке сразу стало как-то неприятно от этого взгляда.
– Это Истомина, наша премьерша, – зашептала Зиночка Долина, незаметно приблизясь к Ксане. – Она здесь все, потому что очень богата. Она держит театр пополам с Арбатовым и делает все, что хочет. А вот и ее Митрофанушка, ее сынок-недоучка. Тоже принца крови из себя корчит. Отовсюду повыгнали, ну и пришлось в актеры идти… У-у, противные!.. Обоих ненавижу!..
Слушая страстный шепот Зиночки, Ксаня недоумевала, что сталось с этой кроткой, тихонькой, чуть восторженной маленькой женщиной. Теперь уже Зиночка Долина не походила на веселую, беспечную птичку. Нет, это был скорее зверек, загнанный и дикий. Ее голубые глазки загорелись злобою, бледные щеки вспыхнули, брови сдвинулись, и все миловидное, маленькое личико приняло жесткое, неприятное выражение.
Между тем рыжая Истомина не сводила с Ксани глаз, вооруженных лорнетом. Смотрел на нее и стоявший подле матери молодой человек, худенький, высокий, как жердочка, с тщательно расчесанным пробором на макушке и каким-то завитым коком, прихотливо пристроенным над узеньким лбом. На юноше был щегольской, светлый костюм, ярко-красный галстук, с воткнутой в него бриллиантовой булавкой. Он играл стеклышком монокля, прикрепленным на золотой цепочке к пуговице сюртука.
– Это «одноглазый Циклоп». Мы его прозвали так за его монокль, успела шепнуть Зиночка на ухо Ксане и неожиданно звонко рассмеялась.
Истомина окончила свой осмотр, пожала плечами я сердито крикнула:
– Сергей Сергеевич, подите сюда!
– Что угодно, Маргарита Артемьевна?
– Вы хотите, чтобы эта дикарка впервые выступила в такой ответственной роли? – презрительно процедила сквозь зубы премьерша, когда Арбатов приблизился к ней.
– Эта роль точно написана для нашей дебютантки! – произнес тот и ласковым, ободряющим взглядом окинул Ксаню. – А что касается исполнения, то вы можете судить о нем уже по читке. Она всех захватила, эта девочка… Тетя Лиза прослезилась даже, слушая ее… – не без гордости присовокупил он тут же.
– У тети Лизы слезы дешевы, одно могу заметить, – сквозь зубы пробурчала Истомина, – а что касается роли, то вот увидите, она ее провалит… – почти прошипела она.
– Провалит, вот увидите! – вторил и ее сынок, вскидывая свое стеклышко, – эту роль могла бы сыграть только моя мамаша.
– Пожалуй, я бы охотно сыграла ее… – отозвалась та новым, значительно смягченным тоном.
Что-то разом перевернулось в добродушном сердце Арбатова. Непривычная злость закипела в нем. Лицо приняло жесткое выражение, такое же точно, каким было за минуту личико Зиночки. Он был обижен за свою ученицу. Едва сдерживаясь от гнева, он произнес насмешливо, глядя в холодные, злые глаза премьерши:
– Полноте, Маргарита Артемьевна! Китти Корали и никто более не сможет из всей нашей труппы сыграть эту роль. В ней есть все данные для этой роли: и юность, и красота, и грация, словом, все необходимое для феи Раутенделейн.
Затем, пожав плечами, он, не дождавшись ответа, быстрыми шагами отошел от позеленевшей от гнева премьерши.
– Ну, детка милая, держитесь стойко, – произнес через минуту Арбатов, ласково погладив по головке Ксаню, успевшую уже снова отойти в сторону, чтобы пробежать про себя продолжение сказки, захватившей ее с головой. Тучи сгущаются, гроза близко, – продолжал Арбатов, – но с таким талантом, с таким голосом и лицом вам нечего бояться ни туч, ни грозы, милая маленькая лесная царевна!
* * *
Как в чаду вернулась в этот день Ксаня в скромный домик Зиночки.
Первая репетиция была и ее первым триумфом. Вся труппа, за исключением разве Радомского и Кущика, постоянно находившихся в качестве приближенных к особе Истоминой, до небес превозносила ее, когда она прочла всю свою роль до конца. Арбатов несколько раз повторял, что ему не верится, что Ксаня начинающая, неопытная дебютантка. Старуха же Ликадиева без дальних слов заключила в объятия Ксаню и, глядя на нее затуманенным взглядом, полным материнской любви, проговорила сердечно:
– Ну, спасибо тебе, деточка, потешила меня, старую… Давно не приходилось слышать такой читки… Ангелы Божий в тебя талантище вдохнули твой… Не зарывай его в землю, девочка, трудись, и из тебя такая актриса выйдет, что и самую Белую за пояс заткнешь!
И она еще раз крепко поцеловала обе смуглые щечки Марко.
Тут подошел папа-Славин, взял за обе руки Ксаню и сказал с чувством:
– Ну, дочка, одолжила, поистине одолжила… Дай Бог всегда так-то… А только себя пожалеть надо… Вы вот что, мамочка, сил-то зря не расходуйте, к спектаклю поберегите… На репетициях в полтона жарьте… А там… дай Бог! дай Бог!.. «Сама»-то лопнет со злости, а у ее Митрофанушки, шут его возьми, желчь разольется, потому что оба не в меру завистливы, талантливую душу утопить готовы.
– Дивно! Дивно! – шептала в каком-то упоении Зиночка, восторженно сжимая руки Ксани. – Когда вы читать начали – я думала захлебнусь от счастья… Какой тон!.. Какой голос, а мимика какая! Вы гениальны, Корали!..
Все эти похвалы кружили гордую, самолюбивую головку Ксани. Когда же Громов-Доринский, подойдя к ней, театральным жестом приветствовал ее и громко с пафосом крикнул:
– «Привет царице, покорившей нас всех до единого!» – Ксане захотелось громко и весело рассмеяться чуть не впервые в жизни.







