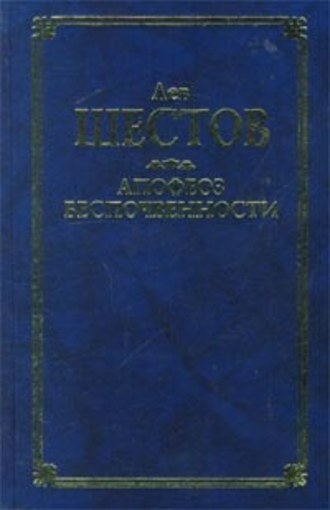
Лев Исаакович Шестов
Киргегард и экзистенциальная философия
XXI. Тайна искупления
Omnes prophetæ viderunt hoc in spiritu, quod Christus futurus esset omnium maximus latro, adulter, fur, sacrilegus, blasphemus etc… quo nullus major nunquam in mundo fuerit.[172]
Лютер
Нам остается сделать последний шаг. Какая-то сила внушила нам убеждение в непреодолимости Ничто, и Ничто стало хозяином в мироздании. Из всего, что нам приносит наш жизненный опыт, это самое непостижимое и загадочное. Почти не менее таинственна та тупая и равнодушная покорность, с которой мы все принимаем власть Ничто, равно как наш безотчетный и неистребимый страх пред ним. Только редкие люди задумываются и останавливаются пред необычайностью того, что с ними происходит. Паскаль чувствовал тут страшное enchantement et assoupissement surnaturels;[173] Лютер говорил нам о servo arbitrio. О порабощенной воле непрерывно твердил нам Киргегард. Но умозрительная философия не хочет этого признать, как она не может или не хочет заметить, что порабощенная воля является, выражаясь языком Канта, условием возможности познания. Все хотят думать, что знание является условием возможности свободы, все тоже убеждены, что свобода есть свобода выбора между добром и злом. Предыдущее изложение, надеюсь, убедило нас, что оба эти предположения являются точно условием возможности существования умозрительной философии. Для того, чтоб была умозрительная философия, необходимо, чтоб воля человека (и Бога: Лейбниц нам «показал» это) подчинилась знанию, подчинившаяся же знанию, порабощенная свобода ipso facto[174] превращается в свободу выбора между добром и злом. Знание подводит человека к действительности, сформировавшейся помимо и независимо от чьей бы то ни было воли – как к непосредственным данным сознания. В этой действительности человек находит все готовым и окончательно определившимся: изменить без него создавшийся строй бытия он не может. Из этого исходит умозрительная философия, на долю которой остается только назидание, начало всякой мудрости. Философия учит человека постичь в «данном» – «необходимое», и это необходимое «принять», более или менее приспособившись к нему. Она, конечно, знает, какой роковой смысл заключается под этим «более или менее». Но она упорно молчит об этом, ибо тоже не выносит того, что «рассказывают безумие и смерть», кладущие конец всяким приспособлениям. Чтоб выйти с честью из трудного положения, умозрительная философия отсылает нас к морали, которая обладает волшебным искусством превращать неизбежное в должное и даже желанное и таким образом парализует в нас все силы сопротивления. Приведенные выше слова Киргегарда из его «Жала в плоть» с жуткой наглядностью показывают нам состояние человека, вверившегося «чистому разуму»: он как в кошмаре чувствует, что на него надвигается страшное чудовище, и не в силах пошевелить ни одним членом. Что держит его в этом оцепенении? Что сковало и поработило его волю? Киргегард нам ответил: Ничто. Он ясно видит, что власть, покорившая его, что власть, покорившая всех нас, есть власть чистого Ничто, – но преодолеть страх пред Ничто, найти то слово, сделать тот жест, который бы рассеял его чары, он не может. Он ищет все, новых «знаний», он пытается возвышающими назидательными речами внушить себе убеждение, что в готовности безропотно и даже радостно выносить выпадающие на нашу долю ужасы – наше завидное назначение, он с остервенением призывает на себя новые ужасы, в надежде, что с ними придет забвение об утраченной свободе. Но ни «диалектика», ни «назидания» не оправдывают возлагавшихся на них надежд. Наоборот – оцепенение духа и бессилие воли все растут. Знание доказывает, что все возможности кончены, назидания возбраняют борьбу. Движение же веры, единственное, которое могло бы выбросить его за пределы сверхъестественно завороженного мира, ему сделать не дано. Ничто продолжает свое ничтожащее дело; страх пред Ничто мешает человеку сделать то, что могло бы спасти его.
Значит ли это, что наступил конец, последний конец, что умозрительная философия с ее истинами и пытками владеет миром и что родившаяся из умного зрения мораль покорности есть все, на что может человек рассчитывать?
К кому с этими вопросами обратиться? Киргегард отверг библейского змея, но Паскаль не побоялся говорить о сверхъестественном оцепенении человека. Но если Киргегард верно разглядел, что человеческое познание держится только страхом пред Ничто, то правы ли мы, когда мы так настойчиво стремимся очистить Св. Писание от «сверхъестественного», и в угоду кому мы это делаем? К кому мы обращаемся с нашими вопросами? Ясно, что к тому, к кому до сих пор были обращены вопросы умозрительной философии, – т. е. к Ничто, страх пред которым побудил человека отвернуться от дерева жизни и связать свои упования с деревом познания. Пока мы еще спрашиваем, мы целиком во власти первородного греха. Нужно перестать спрашивать, нужно отказаться от объективной истины, нужно отказать объективной истине в праве решать человеческие судьбы. Но как это сделать человеку, воля которого «в обмороке», воля которого порабощена, парализована? Не значит ли это «требовать невозможного»? Вне всякого сомнения: это значит требовать невозможного. Даже Киргегард, который столько раз говорил нам об обмороке свободы, решился сказать, что Бог – это значит, что все возможно. Или вернее так: именно Киргегард, которому в его опыте открылось, что грехопадение началось с утраты человеком свободы, что грех есть обморок свободы и бессилие ее, именно такой человек, которому так страшно пришлось расплатиться за свое бессилие, мог постичь – хотя бы в предчувствии того, чего еще нет и для нас, падших, бессильных людей, никогда не было, – все то огромное, что заключается в словах: Бог значит, что все возможно. Бог значит, что нет знания, к которому так жадно стремится и так неотразимо влечет за собой нас наш разум. Бог значит, что нет и зла: есть только первозданное fiat («да будет») и райское valde bonum («добро зело»), пред которыми тают и превращаются в призраки все наши истины, державшиеся «законом» противоречия, «законом» достаточного основания и другими «законами». Человек не может вырваться из власти искусителя, показавшего ему Ничто и внушившего ему неистребимый страх пред Ничто. Человек не может протянуть руку к дереву жизни и принужден питаться плодами с дерева познания даже тогда, когда он убеждается, что они несут с собою безумие и смерть. Но разве человеческое «не может» есть истина? Разве оно не есть лишь свидетельство о бессилии, которое только до тех пор имеет какое-нибудь значение, пока это бессилие длится?[175] Дадим теперь слово другому человеку, который за несколько столетий до Киргегарда говорил с не меньшим надрывом и исступлением о «порабощенной воле», чем Киргегард об «обмороке свободы». В Писании Лютера больше всего привлекало именно то, что в Писании других людей отталкивает. От наших отчетливых и ясных суждений он искал спасения в tenebræ fidei (во «мраке веры»). Бессилие и немощь нашей воли, которые разум так тщательно от нас скрывает, правильно чуя, что ими только и держится его сила – Лютер испытал так же, как и Киргегард. Он убедился, что порабощенная воля не может вести человека к тому, что ему нужнее всего, и что рабство и бессилие воли имеет своим источником истины, которые нам подсказывает разум. Оттого он так безудержно, грубо и часто несправедливо нападал на схоластическую философию. Зримое и незримое присутствие Аристотеля в системах великих схоластиков он воспринимал как оскорбление и вызов откровенной истине. Для него Аристотель был воплощением той concupiscentia invincibilis, той cupiditas scientæ, которая овладела человеком, вкусившим от плодов запретного дерева, в ней он видел bellua, qua non occisa homo non potest vivere. Экзистенциальная философия Киргегарда находится в преемственной связи с sola fide Лютера. Задача человека не в том, чтоб принять и осуществить в жизни истины разума, а в том, чтоб силой веры рассеять эти истины: иначе говоря – отречься от дерева познания и вернуться к дереву жизни. «Homo non potest vivere» Лютер, вдохновляемый Писанием, осмеливается выдвинуть как возражение против самоочевидностей разума, подобно тому, как вопли и проклятия Иова выдвигаются Киргегардом как возражение против доводов умозрительной философии. У Лютера, как у Киргегарда, мышление обогащается новым измерением – верой, – представляющимся обыкновенному сознанию фантастическим вымыслом. Замечательно, что учение Лютера органически связано с учением последних великих схоластиков Дунса Скота и Оккама, с которых начинается развал схоластической философии. Божественный произвол, провозглашенный Дунсом Скотом, подорвал в корне возможность философии, стремящейся соединить и примирить откровение с истинами разума. После тысячелетней почти напряженнейшей духовной работы вдруг выяснилась искусственность или противоестественность того загадочного симбиоза откровения и разумной истины, который вдохновлял творчество наиболее влиятельных представителей средневековой мысли. Если Бог произвольно, ни с чем не считаясь, решает, что добро, что зло, – то что может удержать нас от дальнейшего шага, что может помешать нам, вместе с Петром Дамиани и Тертуллианом утверждать, что Бог столь же произвольно, не стесняясь никакими законами ни мышления, ни бытия, решает, что истина? Если угодно, то первое положение в некотором роде является более вызывающим, чем второе: можно еще примириться с Богом, не признающим нашей логики, но Бог, не признающий нашей морали, т. е. Бог безнравственный, – какое сознание может вместить такое допущение? Для греческой философии (как и для новейшей) такие положения знаменовали собой конец всякой философии. Произвол как основной атрибут Божественной сущности – есть мерзость запустения, которая должна равно претить и верующему, и неверующему человеку. Об этом и распространяться нет надобности: повседневный опыт достаточно обнажает пред нами гнусный и отвратительный смысл, заключающийся в понятии «произвол». Но что бы повседневный опыт ни обнажал, нельзя оспаривать факта, что средневековая философия, стремившаяся, по примеру отцов церкви, «понять» и «объяснить» откровение, в последних своих великих представителях (и непосредственно после Фомы Аквината!) пришла к идее божественного произвола. Правда, последний шаг не был сделан. Даже Оккам не решается следовать примеру Петра Дамиани: закон противоречия и у него захватил власть над разумением Бога. Но дело от этого не меняется. Дунс Скот и Оккам, отнявши у истин разума моральную санкцию, открыли путь Абсурду во все области бытия. Бог может преодолеть закон противоречия. Бог может, вопреки принципу quod factum est infectum esse nequit, своей властью, той potentia absoluta, которая предшествует всякой роtentia ordinata,[176] сделать так, что однажды бывшее станет никогда не бывшим, как он может сделать, чтоб имеющее начало не имело конца, как он может благословить бесконечно страстное стремление к конечному, хотя, по нашему разумению, в этом заключается такая же нелепость, такое же противоречие, как в понятии круглого квадрата, и мы принуждены тут видеть невозможное и для нас, и для Творца. Ничем не ограниченный произвол Творца для нас равно и безумная, и страшная мысль. Мы все готовы, вместе с Лейбницем, душу свою прозакладывать за то, что только законы противоречия и достаточного основания дают человеку уверенность, что, когда он выходит на поиски истины, он вправе рассчитывать, что, повстречавшись с ней, он ее узнает и никогда не примет истину за ложь и ложь за истину. Начиная с Сократа и особенно с Аристотеля и вплоть до наших дней, человеческая мысль в этих законах и их незыблемости видела существенный оплот против осаждающих нас со всех сторон заблуждений. И от них отречься! Когда средневековая философия стала лицом к лицу с «парадоксами» Дунса Скота и Оккама, ей пришлось либо повернуться спиной к своему духовному вождю, Philosophus’у, и признать источником истины фантастические повествования Библии, либо обречь себя на жалкое существование казуистического истолкования систем, созданных до нее. Был, конечно, и третий выход: поставить Библию на свое место, т. е. перестать считаться с ней, когда речь идет об истине. Но это был выход слишком героический. Исходящее средневековье не решалось «идти так далеко». Даже Декарт не смел так доверяться своему мышлению или, во всяком случае, не смел говорить об этом. Только Спиноза отважился поставить и разрешить подготовленную средневековым мышлением огромную и страшнейшую проблему: если нужно выбирать между Писанием и разумом, между Авраамом и Сократом, между произволом Творца и вечными, несотворенными истинами, – а не выбирать нельзя, – то придется идти за разумом и Библию сдать в музей. Аристотель, как зримый и незримый истолкователь Писания в средние века, сделал свое дело: явление Спинозы есть результат его философского руководительства. Дунс Скот и Оккам обнаружили «произвол» в библейском миропонимании. Спиноза отверг произвол как разнузданность и вернулся к идее знания, основанного на доказательствах, на необходимости, того tertium genus cognitionis, cognitio intuitiva,[177] которое превращает непосредственные данные сознания в незыблемые истины. В непосредственных данных сознания – вы никаких законов, никаких истин не найдете, сколько ни ищите. Нет в них закона противоречия, нет в них закона достаточного основания. Не найдете вы в них тоже и той самоочевидной истины, что quod factum est infectum esse nequit. «Усмотреть» все это в опыте нельзя, даже через oculi mentis (умное зрение), которые Спиноза приравнивал к demonstrationes: можно это только к опыту прибавить. В этом и состоит миссия разума, которого опыт только раздражает и который жадно стремится ко всеобщим и необходимым истинам. Только всеобщие и необходимые истины делают знание знанием. Без них опыт есть беспорядочное, экзотическое, ничем не обусловленное следование событий. Всюду нас подстерегают капризные fiat, всюду грозят нам произвольные, ничем, кроме fiat, не вызванные неожиданности. Знание, и только знание может положить конец произволу. Платон был прав: отказавшись от разума, отказавшись от знания, мы обрекаем себя на величайшие беды. И тогда он был прав, когда, словно пророчески предчувствуя, что разыщут в Писании его отдаленные духовные потомки, Дунс Скот и Оккам, он в «Эвтифроне» властно, от имени Сократа, заявил, что идея добра не сотворена, что она – над богами, что святое не потому свято, что его любят боги, а что боги потому любят, должны любить святое, что оно свято. Платон давал себе совершенно ясно отчет, что мораль стоит на страже истины и что, если она покинет свой пост, истине не сдобровать. Истина и добро – несотворены: Бог и в своем познании, и в своих оценках не в меньшей мере, чем человек, осужден на повиновение нормам истины и морали. Non ridere, non lugere, neque detestari – sed intelligere («He смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать»): вот первая заповедь человеческого и божественного мышления, пред которой все библейские заповеди должны отступить на второй план. Точнее – ввиду того, что и отцы церкви, и схоластики постоянно ссылались на библейские тексты, приходится сказать: библейское учение, преломляясь через предпосылки аристотелевской философии, превращалось в свою противоположность. Стремление понять intelligere делало и продолжает делать самых чутких людей глухими даже к библейским громам. Киргегард подвел нас к тому потрясающему моменту истории, когда любовь и милосердие Бога столкнулись с Неизменностью несотворенных истин – и любовь принуждена была отступить: Бог, как человек, бессилен ответить на вопль великого отчаяния. Киргегард знал, что делал, так заостряя вопрос: никогда еще «непрямое высказывание» не получило даже у Киргегарда такого потрясающего выражения, как в этом столкновении. Intelligere высосало из Бога все его могущество, а вместе с тем и его душу. Его воля оказалась в обмороке, в параличе, в рабстве у какого-то «начала». Бог сам превратился в «начало». Иными словами: Бог соблазнился, Бог вкусил от плодов дерева, против которых он предостерегал человека… Дальше идти – некуда: Киргегард подвел нас к тому, что первородный грех совершен не человеком, а Богом. Киргегард подвел нас? Или он сам был подведен к этому?
Вот почему я вспомнил о лютеровском «Комментарии к Галатам». Я сейчас приведу его слова, которые являются и вместе с тем комментарием к попыткам проникнуть в смысл и значение грехопадения, составляющим собой содержание главных сочинений Киргегарда. Имея в виду, конечно, знаменитую и всем известную 53-ю главу пророка Исайи, Лютер пишет: omnes prophetæ viderunt hoc in spiritu, quod Christus futurus esset omnium maximus latro, adulter, fur, sacrilegus, blasphemus etc., quo nullus major alius nunquam m mundo fuerit («Все пророки видели в духе, что Христос будет величайшим разбойником, прелюбодеем, вором, нечестивцем, богохульником, больше которого никто никогда в мире не был»).
Так говорил Лютер, и таков действительный смысл страшной и уничтожающей для нашего разума и нашей морали 53-й главы Исайи. И еще раз, в еще более обнаженных и еще более для нас нестерпимых словах выражает Лютер ту же мысль: Deus miserit unigenitum filium suum in mundum ac conferit in eum omnia peccata, dicens: Tu sis Petrus, ille negator, Paulus, ille persecutor, blasphemus et violentus, David ille adulter, peccator ille qui comedit pomum in paradiso, latro ille in cruce, tu sis persona, qui fecerit omnia peccata in mundo («Бог послал своего единородного сына в мир и возложил на него все грехи, говоря: Ты – Петр, тот, который отрекся, Ты – Павел, насильник и богохульник. Ты – Давид, прелюбодей, Ты – грешник, съевший яблоко в раю, Ты – разбойник на кресте. Ты совершил все грехи в мире»).
XXII. Заключение
Бесконечно страстное стремление Киргегарда к конечному – несмотря на то, что оно заключает в себе внутреннее противоречие и потому на человеческую оценку представлялось и невозможным и бессмысленным, на божественную оценку оказалось отнесенным к тому единому на потребу, которому дано восторжествовать над всеми «невозможно» и «ты должен».
Л.Ш.
С не меньшей силой и страстью, чем Лютер и Киргегард, выразил основные идеи экзистенциальной философии Достоевский: недаром все проведенные им в каторге годы он читал только одну книгу – Св. Писание. И надо полагать, что в каторге Библия читается иначе, чем в писательском кабинете. В каторге человек научается иначе спрашивать, чем на свободе, обретает смелость мысли, которой он и сам в себе не подозревал, – вернее: обретает смелость задавать мысли такие задачи, которые ей никто задавать не решается: борьбу за невозможное. Достоевский говорит почти что словами Киргегарда, хотя он Киргегарда не знал даже по имени… «Перед невозможностью тотчас смиряются. Невозможность – значит каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных… так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два – математика. Попробуйте возразить. Помилуйте, закричат вам, восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так – как она есть, а следственно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена и т. д., и т. д.». Достоевский в нескольких строках подвел итоги тому, что мы слышали от Дунса Скота, Бонавентуры, Спинозы и Лейбница: вечные истины живут в разумении Бога и людей независимо от их воли, в распоряжении вечных истин все устрашения, какие можно вообразить себе, и потому: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Истина есть принуждающая истина, и потому, от кого бы она ни шла, она только тогда будет истиной, если она может защищать себя теми же способами, какими на нее нападают, и для тех, кто этого не признает, уготовлены пытки, которые исторгнут из них нужные признания. Достоевский, как видно из сейчас приведенных его слов, видел все это не хуже, чем Дунс Скот, Бонавентура, Спиноза и Лейбниц. Знал он тоже, что наш разум жадно стремится к необходимым и всеобщим суждениям, хотя в Канта, надо думать, никогда не заглядывал. Но в то время, как умозрительная философия, завороженная Сократом и Аристотелем, все силы свои напрягает к тому, чтобы уложить откровение в плоскость разумного мышления, в то время, как Кант пишет ряд критик, чтоб оправдать и возвеличить страсти разума, у Достоевского является страшное подозрение, или, если хотите, великолепное и ослепительное прозрение, что в этой страсти разума сказалась concupiscentia invincibilis, овладевшая человеком после падения. Повторяю и настаиваю: он, как и Киргегард, знает власть над нами первородного греха; но он чувствует ужас греха, и в этом ужасе уже как бы брезжит предчувствие сознания призрачности присвоенной себе истинами разума власти. Непосредственно после приведенных выше слов, с такой поразительною сжатостью и наглядностью резюмирующих основные принципы умозрительной философии о принуждающей истине, он, совершенно неожиданно для читателя и почти для самого себя, словно в порыве самозабвения не говорит уже, а кричит (такое нельзя говорить, о таком можно только «кричать»): «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней, потому только, что это каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два – четыре. О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться…» Кант «критиковал» чистый разум, для Канта единственная истина, пред которой он преклонялся, была истина разумная, т. е. принуждающая, нудящая. Мысль о том, что «принуждение» свидетельствует не за, а против истинности суждения, что все «необходимости» должны и могут раствориться в свободе (предусмотрительно уведенной им в область Ding an sich), была так же чужда и далека от «критической философии» Канта, как и от догматической философии Спинозы, Лейбница и мистически настроенных схоластиков. И еще более чуждой, прямо дикой представляется для умозрительной философии решимость Достоевского оспаривать доказуемость доказательств: как может человек позволить себе отвести истину только потому, что он ее считает омерзительной! Что бы ни несла с собой истина – все нужно принять. Больше того: все человек примет, ибо, в противном случае, ему грозят неслыханные моральные и физические пытки. Это articulus stantis et cadentis умозрительной философии, которого она, правда, explicite, никогда не формулировала, который она всегда тщательно скрывала, но который implicite, как мы успели убедиться, всегда в ней присутствовал и вдохновлял ее. Нужно безмерное дерзновение Достоевского, нужна «неустрашимая диалектика» Киргегарда, озарение Лютера, безудерж Тертуллиана или Петра Дамиани, чтоб опознать в вечных истинах bellua qua non occisa homo non potest vivere и чтобы с таким оружием в руках, как homo non potest vivere, вступить в борьбу с тем сонмом «доказательств», которыми защищены самоочевидности. Или, вернее, нужно то не знающее пределов отчаяние, о котором нам поведал Киргегард и которое одно только может вынести, выбросить человека в то измерение бытия, где кончается принуждение, а с ним и вечные истины, или где кончаются вечные истины, а с ними и принуждение.
Бессилие Бога, изнемогающего в каменных объятиях Неизменности у Киргегарда, или Бог, оказавшийся величайшим из грешников, какие только когда-либо были в мире, у Лютера: – только тот, кто не на словах, а в своем действительном опыте переживал и переживает весь ужас и всю безмерную тяжесть этой последней загадки нашего существования, – только тот может отважиться «отклонить» свое внимание от «непосредственных данных сознания» и ждать истины от «чуда». И тогда Киргегард бросает свой «лозунг»: для Бога все возможно, Достоевский ополчается против каменных стен и «дважды два четыре», Лютер постигает, что не человек, а Бог сорвал яблоко с запретного дерева, Тертуллиан опрокидывает наши вековечные pudet, ineptum et impossibile. Иов гонит прочь от себя своих благочестивых друзей, Авраам заносит нож над сыном: откровенная Истина поглощает и уничтожает все принуждающие истины, добытые человеком с дерева познания и зла.
Трудно, безмерно трудно падшему человеку постичь извечную противоположность между откровением и истинами знания. Еще труднее вместить в себя мысль о непринуждающей истине. И все же в последней глубине души своей человек ненавидит принуждающую истину, словно чувствуя, что тут кроется обман, наваждение, что она от пустого и бессильного Ничто, страх перед которым парализовал нашу волю. И когда до них доходят голоса людей, которые, как Достоевский, Лютер, Паскаль и Киргегард, напоминают им о грехопадении первого человека, – даже самые беспечные настораживаются. Нет истины там, где царствует принуждение. Не может быть, чтобы принудительная и ко всему безразличная истина определяла собой судьбы мироздания. У нас нет силы рассеять чары Ничто, мы не можем освободиться от овладевшего нами сверхъестественного очарования и оцепенения. Сверхъестественное требует для своего преодоления сверхъестественного вмешательства. Сколько возмущались люди тем, что Бог допустил «змея» соблазнить первого человека, и к каким ухищрениям не прибегали они, чтобы снять с Бога и переложить на человека «вину» первого падения! И точно, кто решится возложить ответственность за ужасы, пришедшие в мир с грехом, на Бога? Не значит ли это подписать приговор Богу? Для нашего разумения не может быть двух ответов. Человек согрешил, и если грех его раздавил – то так это и быть должно. Но Лютеру и всякому, кто не боится читать и слушать Писание, открывается иное: для Бога нет невозможного – est enim Deus omnipotens ex nihilo creans omnia («ибо Он есть Бог всемогущий, все творящий из ничего»). Для Бога нет ни закона противоречия, ни закона достаточного основания. Для него нет и вечных, несотворенных истин. Человек вкусил от дерева познания и погубил тем себя и все свое потомство: плоды с дерева жизни для него стали недоступны, его существование стало призрачным, превратилось в тень, как любовь Киргегарда к Регине Ольсен. Так было – об этом свидетельствует Св. Писание. Так есть: об этом тоже свидетельствует и Св. Писание, и наш повседневный опыт, и умозрительная философия. И все-таки – не человек, а Бог сорвал и вкусил плод от запретного дерева. Бог, для которого все возможно, сделал так, чтоб однажды бывшее стало небывшим и чтобы небывшее стало бывшим, хотя все законы и разума нашего, и морали вопиют против этого. Бог не остановился и пред тем, чтобы в ответ на вопли не только своего Сына, но и обыкновенных людей, «отречься» от Неизменности. Вопли живых, хотя сотворенных и конечных людей, слышней Богу, чем требования каменных, хотя и несотворенных и вечных истин. Он и свою субботу создал для человека и не позволял книжникам жертвовать человеком для субботы. И для Бога нет ничего невозможного. Он принял на себя грехи всего человечества, Он стал величайшим, ужаснейшим из грешников: не Петр, а Он отрекся, не Давид, а Он прелюбодействовал, не Павел, а Он преследовал Христа, не Адам, а Он сам сорвал яблоко. Но для Бога нет ничего непосильного. Грех Его не раздавил. Он раздавил грех. Бог единственный источник всего: перед его волею склоняются и падают ниц все вечные истины и все законы морали. Потому, что Бог хочет, – добро есть добро. Потому, что Он хочет, – истина есть истина. По воле Бога человек поддался соблазну и утерял свободу. По его же воле – пред которой распалась в прах пытавшаяся противиться каменная, как и все законы. Неизменность – свобода человеку вернется, свобода человеку вернулась: в этом содержание библейского откровения. Но путь к откровению заграждают окаменевшие в своем безразличии истины нашего разума и законы нашей морали. Нам страшна бездушная или равнодушная власть Ничто, но у нас нет сил причаститься возвещенной в Писании свободе. Мы боимся ее еще больше, чем Ничто. Ничем, даже добром и истиной, не связанный Бог, Бог, который сам, по своей воле, творит и истину, и добро! Мы воспринимаем, как произвол, нам кажется, что ограниченная определенность Ничто все же лучше, чем безграничность божественных возможностей. Киргегард, сам Киргегард, который на своем опыте в достаточной степени изведал ничтожащее действие несотворенных истин, исправлял Св. Писание и торжествовал, когда Неизменность становилась между Богом и его распинаемым Сыном и влюбленное в себя «чистое» милосердие испытывало блаженство в сознании своей беспомощности и бессилия. Правда, мы знаем, что все признания Киргегарда были вырваны у него на пытке. Но все же, так или иначе, Ничто, во власти которого и Киргегард, и мы все осуждены влачить наше земное существование, сделало страх нераздельным спутником нашего мышления. Мы всего боимся, мы боимся даже Бога и не решаемся ввериться ему, не убедившись вперед, что Он ничем не грозит нам. И никакие «разумные» доводы не могут разогнать этот страх: разумные доводы, наоборот, питают его.
Отсюда и берет начало Абсурд. От Абсурда, выкованного ужасами бытия, Киргегард узнал о грехе и научился видеть грех там, где на него указывает Писание. Противоположное понятие греху есть не добродетель, а свобода. Свобода от всех страхов, свобода от принуждения. Противоположное понятие греху – и это ему открыл Абсурд – есть вера. И это то, что труднее всего воспринять нам в экзистенциальной философии Киргегарда, что он сам труднее всего воспринимал. Оттого он и говорил, что вера есть безумная борьба человека за возможное. Экзистенциальная философия есть борьба веры с разумом о возможном, вернее о невозможном. Киргегард не скажет вслед за умозрительной философией: credo, ut intelligam («верую, чтобы разуметь»). Он отбрасывает как ненужное, как мертвящее наше intelligere. Он вспоминает пророка: justus ex fide vivit (праведник жив верой). Он вспоминает апостола: все, что не от веры, есть грех. Только вера, не считающаяся ни с чем, ничего не «знающая» и знать не желающая, – только вера может быть источником сотворенных Богом истин. Вера не спрашивает, не вопрошает, не оглядывается. Вера только взывает к тому, по воле которого все, что есть, есть. И если умозрительная философия исходит из данного и самоочевидностей и принимает их как необходимое и неизбежное, то философия экзистенциальная через веру преодолевает все необходимости. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, сам не зная, куда идет». Чтобы прийти в обетованную землю, не нужно знание, для знающего человека обетованная земля не существует. Обетованная земля там, куда пришел верующий, она стала обетованной, потому что туда пришел верующий: certum quia impossibile («несомненно – потому что невозможно»).







