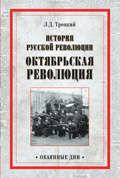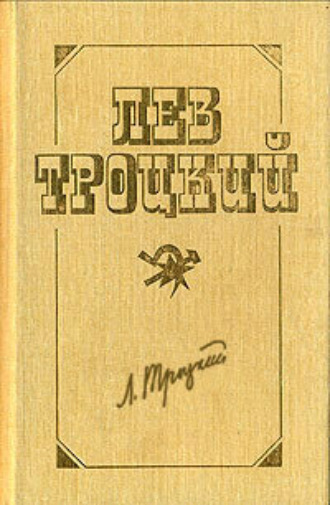
Лев Троцкий
Перманентная революция
Возьмем теперь ленинскую статью 1916 г., которая, как отмечает сам Радек, направлена была «формально против Троцкого, а на деле против Бухарина, Пятакова, пишущего эти строки (т. е. Радека) и ряда других товарищей». Это очень ценное заявление, вполне подтверждающее мое тогдашнее впечатление, что полемика направлена Лениным по мнимому адресу, ибо меня она, как я сейчас покажу, совершенно не задевала по существу. В этой статье есть именно то самое обвинение меня в «отрицании крестьянства» (в двух строках), которое (обвинение) составило впоследствии главный капитал эпигонов и их последователей. Между тем «гвоздем» этой статьи – как выражается Радек – является следующее место:
«Троцкий не подумал, – говорит Ленин, цитируя мои собственные слова, – что, если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель, и свергнет монархию, то это и будет завершением „национальной буржуазной революции“, в России, это и будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». (Ленин, т. XIII, стр. 214).
Что упрек в «отрицании» крестьянства Ленин направлял в этой статье «не по адресу», имея на деле в виду Бухарина и Радека, которые действительно перепрыгивали через демократический этап революции, ясно не только из всего сказанного выше, но и из самой же приведенной Радеком цитаты, которую он справедливо называет «гвоздем» ленинской статьи. В самом деле, Ленин прямо ссылается на слова моей статьи о том, что только независимая и смелая политика пролетариата может «увлечь непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель, свержение монархии» и пр., и Ленин прибавляет: «Троцкий не подумал, что… это и будет революционно-демократической диктатурой». Другими словами, Ленин здесь признает и, так сказать, удостоверяет, что Троцкий на деле приемлет все реальное содержание большевистской формулы (сотрудничество рабочих с крестьянами и демократические задачи этого сотрудничества), но не хочет признать, что это и будет демократическая диктатура, завершение национальной революции. Таким образом, в этой наиболее как будто «острой» полемической статье спор идет не по поводу программы ближайшего этапа революции и ее движущих классовых сил, а именно по поводу политического соотношения этих сил, по поводу политического и партийного характера диктатуры. Если полемические недоразумения, отчасти, в силу не полной еще ясности самих процессов, отчасти вследствие фракционных обострений, были понятны и неизбежны в то время, то совершенно не понятно, как Радек умудряется вносить в вопрос такую путаницу задним числом.
Полемика моя с Лениным шла по существу о возможности самостоятельности (и о степени самостоятельности) крестьянства в революции, в частности о возможности самостоятельной крестьянской партии. Я обвинял в этой полемике Ленина в преувеличении самостоятельной роли крестьянства. Ленин обвинял меня в недооценке революционной роли крестьянства. Это вытекало из логики самой полемики. Но разве же не презрения заслуживает тот, кто сейчас, два десятилетия спустя, пользуется этими старыми цитатами, отрывая их от фундамента тогдашних партийных отношений и придавая абсолютную ценность каждому полемическому преувеличению или эпизодической ошибке, вместо того, чтобы вскрыть, в свете величайшего революционного опыта, каков был действительный стержень разногласий, и какова была их реальная, а не словесная амплитуда.
Вынужденный ограничивать себя в выборе цитат, я лишь сошлюсь здесь на конспективные тезисы Ленина об этапах революции, написанные им в конце 1905 года, но впервые опубликованные только в 1926 г., в V-м ленинском Сборнике (стр. 451). Напомню, что опубликование этих тезисов рассматривалось всеми оппозиционерами, Радеком в том числе, как лучший подарок оппозиции, ибо Ленин по всем статьям сталинского уложения оказывался повинным в «троцкизме». Важнейшие пункты резолюции VII-го пленума ИККИ, осуждающей троцкизм, кажутся как бы сознательно и преднамеренно направленными против основных тезисов Ленина. Сталинцы скрежетали зубами по поводу опубликования этих тезисов. Редактор «Сборника» Каменев со свойственным ему не очень застенчивым «благодушием» прямо говорил мне, что, если бы дело не шло к блоку с нами, он ни в коем случае не допустил бы опубликования этого документа. Наконец, в статье Костржевой в «Большевике» тезисы эти оказались злостно фальсифицированы именно для того, чтоб не подводить Ленина под обвинение в «троцкистском» отношении к крестьянству вообще, к середняку в особенности.
Приведу здесь еще следующую оценку самим Лениным разногласий со мною, данную им в 1909 г.:
"Т. Троцкий в этом рассуждении сам допускает «участие представителей демократического населения» в «рабочем правительстве, т. е. допускает правительство из представителей пролетариата и крестьянства. На каких условиях допускать участие пролетариата в правительстве революции, – вопрос особый, и по этому вопросу, очень может быть, большевики не сойдутся не только с Троцким, но и с польскими с.-д. Но вопрос о диктатуре революционных классов никоим образом не сводится к вопросу о „большинстве“ в том или ином революционном правительстве, об условиях допустимости участия с.-д. в том или ином правительстве» (т. XI, ч. I, стр. 229, подчеркнуто мною).
В приведенной цитате Ленина снова удостоверяется, что Троцкий приемлет правительство из представителей пролетариата и крестьянства, значит не «перепрыгивает» через это последнее. Ленин подчеркивает при этом, что вопрос о диктатуре не сводится к вопросу о большинстве в правительстве. Это совершенно бесспорно. Дело идет прежде всего о совместной борьбе рабочих и крестьян, и следовательно о борьбе пролетарского авангарда за влияние на крестьян против либеральной или национальной буржуазии. Но если вопрос о революционной диктатуре рабочих и крестьян не сводится к вопросу о том или ином большинстве в правительстве, то, при победе революции, он неизбежно приводит к этому вопросу, как решающему. Как мы видели, Ленин осторожно (на всякий случай) оговаривается, что, если дело дойдет до вопроса об участии партии в революционном правительстве, может быть мы с Троцким и с польскими товарищами разойдемся насчет условий этого участия. Речь шла, таким образом о возможном разногласии, поскольку Ленин теоретически допускал участие в демократическом правительстве представителей пролетариата, в качестве меньшинства. События показали, однако, что мы не разошлись. В ноябре 1917 года на верхах партии шла неистовая борьба по вопросу о коалиционном правительстве с эсерами и меньшевиками. Ленин, не возражая в принципе против коалиции на советской основе, категорически требовал твердо обеспеченного большевистского большинства. Я шел рука об руку с Лениным.
Теперь послушаем, к чему собственно сводит Радек весь вопрос о демократической диктатуре пролетариата и крестьянства.
"В чем же основном – спрашивает он – правильной оказалась старая большевистская теория 1905 г.? В том, что совместное выступление петроградских рабочих и крестьян (солдат петроградского гарнизона) опрокинуло царизм (в 1917 году. Л. Т.). В основном ведь формула 1905 г. предвидит лишь соотношение классов, а не конкретное политическое учреждение".
Ну, уж извините! Если я называю старую ленинскую формулу «алгебраической», то вовсе не в том смысле, что ее позволительно свести к пустому месту, как это, не задумавшись, делает Радек. «Основное осуществилось: пролетариат и крестьянство совместно разбили царизм». Но это «основное» осуществлялось во всех без исключения победоносных и полупобедоносных революциях. Царей, феодалов, попов везде и всегда били своими боками пролетарии или предпролетарии, плебеи и мужики. Это было уже в XVI столетии в Германии и даже ранее того. В Китае «милитаристов» били те же рабочие и крестьяне. Причем же тут демократическая диктатура? В старых революциях ее не было, не было и в китайской. Почему? Потому, что верхом на рабочих и крестьянах, выполнявших черную работу революции, сидела буржуазия. Радек так сильно отвлекся от «политических учреждений», что позабыл самое «основное» в революции: кто руководит и кто берет власть. Между тем, революция есть борьба за власть. Это есть борьба политическая, которую классы ведут не голыми руками, а через посредство «политических учреждений» (партий и пр.).
«Люди, не продумавшие сложности метода марксизма и ленинизма, – громит нас, грешных, Радек, – поняли дело так: непременно дело должно кончиться совместным правительством рабочих и крестьян, да некоторые даже подумали, что это непременно должно быть коалиционное правительство партий, рабочей и крестьянской».
Вот какие эти «некоторые» простаки!.. А что же думает сам Радек? Что победоносная революция не должна привести к новому правительству, или что это правительство не должно отобразить и закрепить определенное соотношение революционных классов? Радек так углубил «социологически» проблему, что от нее ничего не осталось, кроме словесной шелухи.
Насколько недопустимо отвлекаться от вопроса о политических формах сотрудничества рабочих и крестьян, лучше всего покажут нам следующие слова из доклада самого же Радека в Коммунистической Академии в марте 1927 г.
«Я в „Правде“ написал в прошлом году статью об этом (кантонском) правительстве, назвав его крестьянско-рабочим. А товарищ в редакции, думая, что я ошибся, исправил: рабоче-крестьянское правительство. Я не протестовал и так и оставил: рабоче-крестьянское правительство».
Таким образом, Радек в марте 1927 года (не в 1905 году!), считал, что может существовать крестьянско-рабочее правительство, в отличие от рабоче-крестьянского. Редактор «Правды» этого не понял. Признаюсь, и я не понимаю, хоть убей. Что такое рабоче-крестьянское правительство, мы хорошо знаем. Ну, а что такое крестьянско-рабочее правительство, в отличие от рабоче-крестьянского и в противовес ему? Потрудитесь объяснить эту загадочную перестановку прилагательных! Тут мы подходим к самой сердцевине вопроса. В 1926 году Радек думал, что кантонское правительство Чан-Кай-Ши является крестьянско-рабочим, и в 1927 году он это определение повторил. На деле же оказалось, что это было буржуазное правительство, эксплуатировавшее революционную борьбу рабочих и крестьян и затем утопившее их в крови. Чем же объясняется эта ошибка? Радек просто обознался? На расстоянии можно обознаться. Тогда так и говори: не понял, не разглядел, ошибся. Но нет, тут не фактическая ошибка, из-за недостатка информации, а, как ясно становится сейчас, глубоко принципиальная. Крестьянско-рабочее правительство, в противовес рабоче-крестьянскому, это и есть Гоминдан. Ничего другого оно не может означать. Если крестьянство не идет за пролетариатом, то оно идет за буржуазией. Думаю, что в моей критике сталинской фракционной идеи «двухсоставной рабоче-крестьянской партии» этот вопрос достаточно выяснен. (См. «Критика программы Коминтерна»). Кантонское «крестьянско-рабочее» правительство, в отличие от рабоче-крестьянского, и есть на языке нынешней китайской политики единственно мыслимое выражение «демократической диктатуры» в противовес пролетарской диктатуре, иначе сказать, воплощение сталинской гоминдановской политики в противовес большевистской, которую Коминтерн называет «троцкистской».
IV. КАК ВЫГЛЯДЕЛА ТЕОРИЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ПРАКТИКЕ?
Критикуя теорию, Радек присоединяет к ней, как мы видели, и «тактику, из нее вытекающую». Это очень важное прибавление. Официальная критика «троцкизма» в этом вопросе осторожно ограничивалась теорией… Но Радеку этого не достаточно. Он ведет борьбу против определенной (большевистской) тактической линии в Китае. Ему нужно эту линию скомпрометировать теорией перманентной революции, а для этого необходимо доказать, или хоть сделать вид, будто это кем-то уже доказано, что из этой теории в прошлом вытекала неправильная тактическая линия. Радек вводит здесь в прямое заблуждение своих читателей. Возможно, что сам он не знает истории революции, в которой никогда не принимал прямого участия. Но он, по-видимому, совершенно не дал себе труда проверить вопрос по документам. Между тем главные из них собраны во II томе моих «Сочинений»: проверка доступна сейчас каждому грамотному человеку.
Итак, да будет Радеку известно: почти на всех этапах первой революции у меня была полная солидарность с Лениным в оценке сил революции и ее очередных задач, несмотря на то, что весь 1905 год я провел нелегально в России, а 1906 г. – в тюрьме. Я вынужден ограничиться здесь минимальным числом доказательств и иллюстраций.
В статье, написанной в феврале и напечатанной в марте 1905 года, т. е. за 2-3 месяца до первого большевистского съезда (вошедшего в историю как третий съезд партии), я писал:
«Жестокая борьба между народом и царем, не знающая других соображений, кроме соображений победы; всенародное восстание, как высший момент этой борьбы; Временное правительство, как революционное увенчание победы народа над вековым врагом; разоружение царистской реакции и вооружение народа Временным Правительством; созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, – таковы объективно намечающиеся этапы революции» (том II, часть I, стр. 232).
Достаточно сравнить эти слова с резолюциями большевистского съезда, заседавшего в мае 1905 г., чтобы признать в постановке основных тактических проблем полную мою солидарность с большевиками.
Мало того, в духе этой статьи я формулировал в Петербурге тезисы о временном правительстве, согласованные с Красиным и изданные тогда же нелегально. Красин защищал их на большевистском съезде. Вот как одобрительно отозвался об них Ленин:
«В общем и целом я разделяю мнение т. Красина. Естественно, что я, как литератор, обратил внимание на литературную постановку вопроса. Важность цели борьбы указана т. Красиным очень правильно, и я всецело присоединяюсь к нему. Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за который борешься…» (т. VI, стр. 180).
Большая часть обширной красинской поправки, к которой я отсылаю читателей, вошла в резолюцию съезда. О том, что поправка принадлежала мне, свидетельствует имеющаяся у меня и сейчас записка Красина. Весь этот партийный эпизод хорошо известен Каменеву и другим.
Вопрос о крестьянстве, о сближении его с рабочими советами, о согласовании работы с Крестьянским союзом поглощал с каждым днем все больше внимания петербургского Совета. Может быть Радек все же знает, что руководство Советом лежало на мне? Вот одна из сотен дававшихся мною формулировок тактических задач революции:
«Пролетариат выдвигает общегородские „советы“, руководящие боевыми действиями городских масс, и ставит на очередь дня боевое объединение с армией и крестьянством». («Начало», N 4, 17/30 ноября 1905 года).
Скучно и даже совестно, признаться, приводить цитаты, доказывающие, что о «скачке» от самодержавия к социализму у меня не было и речи. Но приходится. Вот, что я писал, например, в феврале 1906 года по поводу задач Учредительного Собрания, отнюдь не противопоставляя ему советы, как это сейчас Радек, вслед за Сталиным, торопится делать в отношении Китая, чтоб ультралевой метлой замести оппортунистические следы вчерашнего дня.
«Учредительное Собрание будет созвано силами самого освобожденного народа. Задачи Учредительного Собрания будут колоссальны. Оно должно будет перестроить государство на демократических началах, т. е. на началах полного народовластия. Оно должно будет организовать народную милицию, провести грандиозную аграрную (земельную) реформу, ввести восьмичасовой рабочий день и подоходно-прогрессивный налог» (т. II, ч. I, стр. 349).
А вот специально по вопросу о «немедленном» введении социализма, из написанной мною популярной листовки 1905 года:
«Мыслимо ли ввести у нас в России социализм сейчас? Нет, наша деревня еще слишком темна и бессознательна. Еще слишком мало настоящих социалистов среди крестьян. Прежде всего нужно свалить самодержавие, которое держит народные массы во тьме. Нужно освободить деревенскую бедноту от всяких податей, нужно ввести подоходно-прогрессивный налог, всеобщее обязательное обучение, нужно, наконец, объединить деревенский пролетариат и полупролетариат с городским пролетариатом в одну социал-демократическую армию. Только такая армия сможет совершить великий социалистический переворот» (т. II, ч. I, стр. 228).
Выходит, что я как будто различал демократический и социалистический этапы революции задолго до того, как Радек, вслед за Сталиным и Тельманом, стал меня этому обучать.
Двадцать два года тому назад я писал:
«Когда в социалистической прессе была формулирована идея непрерывной революции, связывающей ликвидацию абсолютизма и крепостничества с социалистическим переворотом рядом нарастающих социальных столкновений, восстаний новых слоев массы, непрекращающихся атак пролетариата на политические и экономические привилегии господствующих классов, наша „прогрессивная“ печать подняла единодушный негодующий вой». («Наша революция», 1906 г., стр. 258).
Обращаю прежде всего внимание на данное в этих словах определение непрерывной революции: она связывает ликвидацию средневековья с социалистическим переворотом рядом нарастающих социальных столкновений. Где же тут скачок? Где игнорирование демократического этапа? И разве не так именно происходило дело в 1917 г.?
Нельзя не отметить мимоходом, что вой «прогрессивной» печати 1905 г. по поводу непрерывной революции не идет ни в какое сравнение с отнюдь не прогрессивным воем нынешних борзописцев, вмешавшихся в дело с маленьким запозданьицем на четверть столетия.
Как же отнесся к поставленному мною в печати вопросу о перманентной революции тогдашний руководящий орган большевистской фракции, «Новая Жизнь», выходивший под бдительной редакцией Ленина? Согласитесь, что это не лишено интереса. На статью «радикальной» буржуазной газеты «Наша Жизнь», которая попыталась противопоставить «перманентную революцию» Троцкого более «разумным» взглядам Ленина, большевистская «Новая Жизнь» (27-го ноября 1905 года) ответила так:
"Это развязное сообщение, разумеется, совершенный вздор. Тов. Троцкий говорил, что пролетарская революция может, не останавливаясь на первом этапе, продолжить свой путь, тесня эксплуататоров, а Ленин указывал на то, что политическая революция есть лишь первый шаг. Публицисту из «Нашей Жизни» захотелось увидеть тут противоречие… Все недоразумение возникло, во-первых, от ужаса «Нашей Жизни» перед самым именем социальной революции, во-вторых, от ее желания отыскать какое-нибудь острое и пикантное разногласие между социал-демократами и, в третьих, от образного выражения т. Троцкого: «одним ударом». В N 10 «Начала» тов. Троцкий совершенно недвусмысленно разъяснил свою мысль:
«Полная победа революции означает победу пролетариата» – пишет тов. Троцкий. – Эта последняя, в свою очередь, означает дальнейшую непрерывность революции. Пролетариат осуществляет основные задачи демократии, и логика его непосредственной борьбы за упрочение политического господства ставит перед ним в известный момент чисто-социалистические проблемы. Между минимальной и максимальной программой устанавливается революционная непрерывность. Это не один «удар», это не день и не месяц, это целая историческая эпоха. Было бы нелепостью заранее учитывать ее продолжительность".
Одна эта справка в известном отношении исчерпывает тему настоящей брошюры. Разве можно было яснее, точнее, бесспорнее отбросить заранее всю будущую критику эпигонов, чем это сделано было в той моей газетной статье, которую с таким одобрением цитировала ленинская «Новая Жизнь»? Статья моя разъясняла, что в процессе осуществления демократических задач, победоносный пролетариат, логикой своего положения, будет на известном этапе неизбежно поставлен перед чисто-социалистическими проблемами. Именно в этом и состоит непрерывность между минимальной и максимальной программой, неизбежно вырастающая из диктатуры пролетариата. Это не один удар, это не скачок, – пояснял я тогдашним критикам из мелкобуржуазного лагеря, – это целая историческая эпоха. И ленинская «Новая Жизнь» полностью присоединилась к этой перспективе. Но еще важнее, надеюсь, тот факт, что реальный ход развития проверил ее и окончательно признал правильной в 1917 году.