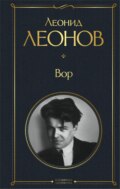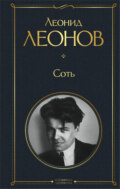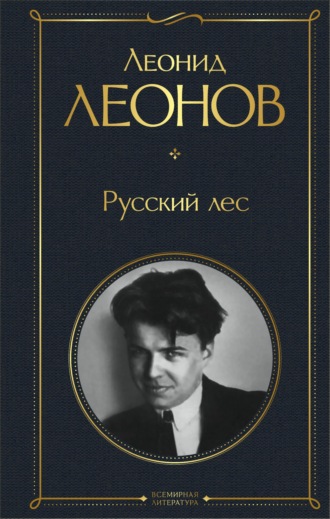
Леонид Леонов
Русский лес
4
Ребята отыскали знакомый лаз в белой каменной ограде, пересекли лиственничную аллею с запущенным прудом в конце и прямиком, через парк, вышли на площадку перед террасой, густо обвитой каприфолью. Пришли они явно не вовремя: в доме сидел гость, сам великий Кнышев, а чем он был велик, того еще не ведал пока никто на Енге. У каретника гнедой норовистый конек, запряженный в ковровые, на железном ходу дрожки, хрупал овес, обмахиваясь хвостом от паутов. На этот раз некому было прогнать ребят, словно и челядь и собаки – все попряталось от лютых сапегинских гостей.
По давности лет уж выпало из памяти Ивана Матвеича, присутствовал ли при этом Пашка Летягин, встретившийся им по дороге, или же вдвоем сидели они с Демидкой до полной одури на скамеечке под террасой, откуда доносился звон посуды и неразборчивая, лишь по позднейшей догадке восстановленная речь. Там происходил обычный торг – с обманом, уходами и ленивыми взаимными угрозами, хотя обе стороны, разморенные жарой, одинаково стремились к благополучному завершению дела.
– А ты погоди, Софья Богдатьевна, дай и нам слово молвить, – говорил простуженный, как из погреба, голос. – Ну смотрел, смотрел я твою лесную дачу, все утро на пару с Титкой выхаживали. Сколько мы с тобой насчитали, Титка?
– Да ведь как считать! Ежли со снисхождением, деток ихних жалеючи, считать, то десятин без малого тысяч семь наберется, – безразлично проскрипел второй, не иначе как приказчик покупщика. – Коснись меня, так я и дарма с подобным лесом связываться не стал бы… дело хозяйское!
– Да что вы, господа… – заволновалась пожилая женщина, видимо сама помещица. – У меня же и бумаги гербовые на лес имеются, я таксатора нанимала. Там сосны одной девять верных будет, да за Горынкой липового клина десятин тысячи две.
– То-то и горе, что мелковата твоя десятинка, Софья Богдатьевна… В Европе две-то тыщи десятин – целое королевство. Да и не гонюсь я за липой… липу я тебе всею оставлю, только корье с ней заберу. А бумага?.. Осподи, да прикажи, я тебе за красненькую такую бумаженцию предоставлю, будто ты и есть генерал Скобелев с усами, во как! – машисто сказал первый под рассыпчатый Титкин смешок. – Извини, хозяйка, что я так, попросту с тобою, от души. Ой, держись, Титка, опять она нам наливает… ой, хитра! Спорить нам нечего, можно и еще разок шагами промерить. Займись-ка с утречка, Титка… прихвати с собой и барыньку, погуляй с ей вдвоем.
– Ноги свои, не купленные, – согласился приказчик и зевнул в знак полной своей незаинтересованности. – Можно и еще разок сгулять.
Снова заговорила хозяйка:
– Ладно, предположим… пусть будет всего только восемь. Однако у меня сейчас денежные затруднения, и мне хотелось бы теперь же знать, сколько я на руки получу. Если даже по семидесяти кубов взять на десятину…
– Да откуда ж там семьдесят, ваше степенство? – фальшиво взмолился Титка о пощаде и снисхождении, – Да там от силы, пошли господь, хоть сорок-то наковырять.
– Ах, ах! – как под ножом, стонала кнышевская жертва. – Где ж у вас совесть-то, господа?.. да как же вы с бедной вдовой поступаете? Мне тогда придется к закону за защитой обратиться.
– А зачем его, батюшку, зря будить-беспокоить? Кабы мы еще на тебя с кистенями навалились, тогда другое дело. Мы, голубка ты наша, и так уйдем, пущай спит твой закон… Ты чего к месту прирос, Титка? Вставай, дуборос, кланяйся за угощение… поехали!
Послышался беспорядочный треск сдвигаемой мебели, шарканье ног и беспомощные женские вздохи.
– Я все же прошу вас присесть, господа… и войти в мое положение: я уж вам открываюсь, как на исповеди! У меня сгрудились срочные платежи, и проценты в банк совсем замучили. Кроме того, внуки малые на руках, да еще зять психопат… Отвернитесь, не слушайте, дети. Ну, просто выдающийся психопат! – повторила она с таким страдальческим выражением, что теперь со стороны купцов было бы бессердечно не надбавить цену. – Давайте же прикинем хоть начерно. Даже если по-вашему… скажем, восемь тысяч десятин по сорок кубов… пусть будет по пять рублей… хорошо, даже по четыре с полтиной за сажень. Посчитай на листочке, Коко, сколько получается… и не щипай Леночку, стыдись: ты уже мужчина!
Наступила пауза, и потом срывающийся от волнения детский голос объявил причитающееся к платежу в миллион триста сорок тысяч, а это показывало, в свою очередь, что мужчина был не слишком силен в арифметике.
– Ну, вот… – упавшим голосом сказала хозяйка, и мальчикам стало ясно, что барыню победили.
– Такие деньжищи только в задачниках Евтушевского попадаются, обожаемая, – жестко и речисто отрезал главный покупатель. – Ты не барыши свои, ты мои убытки считай. У тебя там одной гари поболе двух тыщ будет, а куды мне ее к черту… разве только самовары ставить? Так мы чайком-то почти и не балуемся!..
– Осподи, да с него обопьешься, с чаю-то! – весело хохотнул приказчик.
– …да еще прогалины среди лесу, да поруби, да короедом побито… а мне лес-то – не по грибы ходить, мне шпалы из него тесать, голубушка, по ним люди ездить станут. Как на духу тебе сказать, там и лесу-то настоящего нет.
– Вот как мы на Больше, у графа Чернышева дуб валили, так то лес был, – скороговоркой вставил Титка. – Глянешь наверх-то: мамынька моя родимая, сердце обомрет!.. Ровно тятеньку под корень рубишь, а тут…
– Помолчи, Титка, – оборвал главный. – Лес-лес, а ты сама в том лесу бывала хоть разок, Софья Богдатьевна? В России все под лесом числится, где косе ай серпу делать нечего, А его, лес-то русский, питерский чин в халате циркулем по карте считал. На поверку же гарь да топь, щучкой поросла… бурелом да подтоварник, а иной вовсе у черта на рогах… эва, достань его! Его пока до катища дотянешь, бородой по пояс обрастешь, понятно?
– Господи, да чего ж вы на меня в четыре руки напали… – оборонялась, как могла, хозяйка.
– Терпи, раз уж подпоила. И лес-то твой от здешних мужиков краденый: слыхали мы про тяжбу твою… и сам я тоже не лучше тебя, вор, раз краденое покупаю. И не дай бог, запоет красный петушок на Руси, на одной вожже нам с тобой, милая барынька, висеть-проклажаться. Оба мы, ты да я, с бритвы мед лижем, понятно? Вот тебе мой счет: по выплате банковской ссуды и куртажа сутягам, на руки тебе сорок тысяч… да от зятя береги, пропьет! Подмазка в губернии твоя, мое дело – топор. Остальные полтораста к Новому году. Думать до завтра, а то на Дон укачу.
– Ой, не щедрился бы, Василь Касьяныч… проторгуемся! – костяным голосом подзадорил Титка.
– Э, бог с ей: детишечек ейных жалею!.. А нас пущай осподь за печаль нашу вознаградит. Теперь наливай, барынька, да вели-ка нам яишенку спроворить, а то отощали мы у тебя…
Так просватали под топор знаменитый Облог на Енге. Пышное великолепие усадьбы, мнившейся ребятам волшебным раем, давно носило следы крайнего упадка. Отмена крепостного права, лишившая дворянское сословие даровой рабочей силы, заставила покойного Сапегина заложить имение в банк для других, новейших, по моде века, сельскохозяйственных начинаний, они должны были озолотить его, но не озолотили. И как свалился, так и покатилось все под гору: вымер от поветрия породистый скот, рухнули оранжереи с приколотыми к стенам шпалерными абрикосами, сквозь осыпь штукатурки в углу гостиной стало гнилое дерево проступать. Одна сирень, буйствуя по веснам, распространяя густой, до головокруженья, аромат, наступала на цветники, выползала на дорожки, прикрывая полуразоренное дворянское гнездо. Старый управитель Аверьяныч, правая рука и око покойного Сапегина, погрузился в непробудное пьянство, и таким образом хозяйство перешло в руки самой Софьи Богдатьевны, еще в университетские годы вывезенной из Померании, – дамы рыхлой и болезненной, умевшей только серебряные ложки считать да ставни на ночь запирать от воображаемых злоумышленников. Основное старухино богатство состояло из переспелых, никому в том краю не надобных лесов; в связи со слухами о скором проведении чугунки через Лошкарев на Вологду ей представлялась последняя возможность выбраться из затруднений. Сам бог посылал Кнышева, хоть и нетрезвого, на ее вдовье горе.
Сделку надлежало спрыснуть, а так как за столом сидели лишь женщины да дети, Титка же не смел, находясь при должности, то гость спрыскивал в одиночку за всех по очереди и скоро достиг того окоселого состояния, когда необходимо стало либо выносить его на сеновал, либо самим выбираться на свежий воздух. Тут все Сапегины и высыпали на ступеньки деревянной лестницы, с каскадами отцветшей каприфолии на покосившихся перилах.
Впереди выступала огромная старуха в лиловой люстриновой юбке, вся в пунцовых пятнах недавнего волнения по землистому, нездоровому лицу. Собственно, она в полном одиночестве коротала век в усадьбе, – только в летние каникулы у ней гостила дочка с сыновьями от незадачливого брака. Оба они и шли сейчас рядом с бабушкой, стриженые, с синими подглазьями, аккуратные мальчики в парусиновых гимназических курточках. Ивану запомнилось: старший из любознательности надевал желтого слепня на соломинку, а младший рассеянно жевал травинку. «Не жильцы на белом свете», – чуть свысока усмехнулся на них Демидка.
Главной барыне не понравилось присутствие посторонних, хоть и детей, в такое время: она ворчливо осведомилась у подвернувшейся горничной, не появлялся ли Аверьяныч, но нет, Аверьяныч пока не выплывал, как та выразилась, насосамшись с вечера.
– Ну, что у вас там, милые пареньки? – спросила хозяйка издалека.
– Вот белка… – буркнул Демидка, сдергивая картуз, что сразу расположило старую барыню в его пользу.
– А у тебя что? – обратилась она в Иванову сторону.
– Мы все вместе, – отвечал Панька Летягин, который присоединился по дороге и, значит, также участвовал в продаже Марьи Елизаровны.
Пятеро Сапегиных, если не считать горничной, тотчас окружили продавцов, и пятою была девочка лет пяти в затрапезном, бывшем розовом платьишке, с непонятными Ивану цветными кружками и полосками по лицу. Кто-то из мальчиков разрисовал ее под индейца детской акварелью; маленькую звали Леночкой. Ей тоже хотелось полюбоваться на лесного зверька, но все ее попытки оказывались напрасными, пока не догадалась пузыриком протиснуться между ног старшего гимназиста. Довольно звучно тот щелкнул ее перстом в затылок, меж косичек, и она безжалобно отползла назад, на крокетную площадку, приученная к второстепенному положению в доме.
– Покажите вашу белку, дети, – приказала барыня помоложе с унылым и таким длинным носом, что пока доберешься взглядом до конца, приходилось возвращаться назад, чтоб вспомнить начало.
Отважно, хоть и зажмурясь, Демидка запустил руку в мешок и выхватил за шейку Марью Елизаровну. Та не сопротивлялась, еще не знала, что обычно все живое здесь ласкают до смерти, после чего с подобающим пением хоронят на крошечном погостике рядом с прежними любимцами мальчиков Сапегиных. Демидка держал белку прочно и потискивал слегка – не затем, чтобы отомстить за покусы, а чтобы барчукам захотелось поскорее избавить бедную от мучений. Тут все принялись упрашивать Демидку, чтобы не причинял боли божьему творению, и неравный поединок длился до тех пор, пока слабые не сдались. Мать разрешила сыновьям истратить содержимое своей копилки и прибавила по-немецки, чтобы учились на примере вести торговые операции с крестьянами.
– Сколько стоит? – сладким голосом спросил младший, умильно взирая на затихший рыжий комочек с обвисшим хвостом.
Тогда старший подкинул в воздух слепня, улетевшего со своим грузом, и деловито отстранил брата.
– Скажите, это у вас хорошая белка? – приступил он, держа руку на пряжке ремня.
– Злющая, первый сорт, еле с дерева оторвал. Што кровишши вытекло: прямо один купорос с ею! – И показал свободную пораненную руку, чтобы поднять цену товара.
– Значит, она у вас кусается? – чуть отступив, спросил младший.
Демидка презрительно глянул ему в ноги:
– О, и не думает. Это я сам об нее искровенился… – Ложь оказалась своевременной, так как дурной характер белки мог и отпугнуть покупателей. – Она у нас смирная, Марьей Елизаровной зовут.
Среди обитателей усадьбы начался спор, куда поместить белку, и бабушка советовала поселить ее в клетке погибшего накануне щегла, молодое же поколение намеревалось держать белку на тонкой, совсем незаметной проволочке вокруг горлышка, чтобы не стеснять ее свободы.
– А ее можно мылом мыть? – кротко поинтересовался младший, пока другие продолжали спор.
– Мылом-то? – с видом знатока задумался Демидка. – А чего ж, можно и мылом. Да она и в бочке проживет, если кормить. Окромя огурцов, все жрет… мелкому зверю, главное, костей не давать, чтоб не подавился.
Тут Ивану стало не то чтобы противно, он еще не понимал существа частной коммерции, а как-то не по себе… Сперва его внимание привлек Титка в щипаном сюртучке, выползший наружу, чтобы не сквернить махоркой господских хором. То был сухопарый, старый плут с продавленным внутрь лицом и до такой степени выдвинутыми вперед губами, что непонятно становилось, чем можно было добиться такого поразительного результата. Он похаживал на террасе, злорадно ковыряя ногтем лупившуюся краску… И вдруг еще неизвестная Ивану сила подвела его ко всеми оставленной Леночке, которая жизнерадостно, усевшись на крокетной площадке, наслаждалась горсткой незрелой бузины в подоле платья.
Иван рассудительно покачал головой:
– Ты смотри, этого не ешь, от них помирают… в желтый песочек уложат, – и по праву старшинства, отобрав ягоды, покидал в кусты. – Кто это тебя, несчастную, так размалевал?
– Братики… – кротко отвечала маленькая.
– Иди смой… нехорошо: люди смотрят! – почуяв в ней родню, посоветовал Иван. – Ну ты чего больше всего на свете любишь?.. скажи, я тебе достану.
– Птичку, – улыбнулась девочка, слепительно глядя в самую душу Ивана.
И за один тот синий взгляд, за тоненькую, еще неосознанную боль детского сочувствия на всю жизнь полюбил он эту невозмутимую замарашку, как и Калину Глухова с его родничком.
– Тогда уж я тебе сыча принесу… у меня есть на примете. Только, смотри, его мышами надо кормить… ничего, наловишь! Я тебе за так, без денег принесу, – прибавил он тоном погрубей, чтобы не ронять мужского достоинства. – Ты отпросись завтра к пруду в это время… придешь?
Сыч попался отличного качества, с когтищами, еще дитенок, но уже страшный; сквозь громадное, как тулуп, серое с белыми крапинками оперенье прощупывалось воробьиное тельце. Иван прождал у пруда до вечера, целую тропку натоптал в траве, но женщина не пришла на свиданье. Оно состоялось только через семнадцать лет.
С той поры Демидка стал придворным поставщиком барчуков. Для них ловил он птиц на привадах и водопоях, сучьем заваливая ручеек и накрывая лоскутом рыбацкой сети крохотное зеркальце воды. Пленницы нуждались в пище, – он с малых лет обучился пользоваться смирением обездоленных, сваливая муравьиные кучи на току, откуда труженики сами стаскивали ему под разостланную холстину желтоватое отборное яйцо. Воробьев и зябликов он продавал за соловьев, на опыте постигая искусство торгового обмана, помогавшего ему брать вчетверо против того, что было затрачено на легкий труд поимки. На глазах у потрясенных гимназистов, облепленный пиявками, он вычерпывал карасей из тины сапегинского пруда и никогда не отпускал товара в кредит; когда же у покупателя не хватало наличности, принимал в уплату все – от стальных перышек до византийских монеток из потихоньку разграбляемой нумизматической коллекции деда. И хотя они не имели хождения в трактирах империи, Золотухин с одобрением следил, как у его любимца пробивается первый кулацкий зубок. В этой встрече двух соперничающих сословий обе стороны ненавидели друг друга, но Демидка был сильнее: на спесивую заносчивость квелых, всегда с завязанным горлом барчат он отвечал затаенной мужицкой ненавистью.
… Остаток лета Иван почти сплошь провел у Калины; мать отвыкла кликать его к ужину. Их день начинался с зорьки, когда первый луч вместе с птичьей перекличкой цедится сквозь туман в голубоватый, влажный сумрак леса. Старый и малый обходили свою державу, неслышно подсматривая новости: как поживает господин барсук в своем кургане или как в четыре приема, всякий раз с детенышем в зубах, перебирается на новую квартиру сестричка несчастной Марьи Елизаровны, – вековой настил хвои скрадывал шорохи людских шагов. Обычно маршрут повторялся, но в лесу, как в хорошей книге, всегда найдется непрочитанная страница. Здесь, в дороге, Калина учил своего питомца узнавать по росам погоду, а урожай по корешкам лесных трав – и прочей тайной грамоте леса, в которой скопился тысячелетний опыт народа.
Поход завершался на высоком бережку Енги; был там один заветный мысок, поросший кошачьей лапкой. Далеко внизу, где в тонком разливе воды просвечивали мели и перекаты, буксиришко оттаскивал на зимовку целое семейство пестрых бакенов, и коршун парил с кровавым отсветом заката на крыле. Сказка кончалась, шла осень, все голей становилось вокруг.
Старик давно переступил рубеж, за которым стирается разница возрастов. То была немногословная дружба старого и малого, без боязни разлуки, но и без фальшивого обоюдного ласкательства. Один примиренно прощался со всем, что принимал в свои руки другой. О себе Калина рассказывал скупо, но можно было понять между слов, что чарку своей жизни выпил он, не поморщась, и было бы совсем славно, кабы толченого стекла щепотка не оказалась на донышке. В этих рассказах кончался сказочный Калина и начинался милый, вдвое дороже мальчику, телесный человек.
– Значит, и не святой ты, дедушка?.. значит, и ты помрешь, да? – разочарованно спрашивал Иван.
Тот смеялся и прощальными глазами обводил багряные, уже облетающие ближние леса за Енгой, поля с неубранными кое-где крестцами снопов, и дальше – свежую песчаную, убегавшую вдаль, насыпь неизвестного пока назначения, и на горизонте – город Лошкарев, за пятнадцать верст сверкавший своими точно фольговыми окошками. Калина охотно разъяснил приятелю свою веру, ставшую впоследствии верой и самого Ивана Матвеича. И если б пригладить его слова на книжный образец, получилось бы, что нет бога на земле, а только никогда не остывающий хмель жизни, да радости пресветлого разума, да еще желтая могильная ямина в придачу – для переплава их в еще более совершенные ценности всеобщего бытия… Как всегда, старик плел очередной кузовок, а мальчик лежал на спине и глядел в небо на спокойный, растянувшийся клин улетавших журавлей с чуть оторвавшейся точкой, вожаком, впереди. Детскому разуму трудно было понять мудрость Калины, но голубой отсвет ее Иван унес с собой в жизнь и однажды даже попытался воспроизвести ее по памяти в одном петербургском споре о личном бессмертии.
Не меньшую осведомленность проявлял Калина и в отношении нечистой силы. За долгий срок раздольной столичной жизни старик выяснил с достоверностью, что черти бывают двоякие, и лишь низшие из них, встречаемые в местах присутственных, отмечены смрадом и прыщами исключительной неприглядности. Старшие же – малодоступные для всенародного обозрения – нередко отличаются даже чрезмерным благообразием, квартируют в нарядных хоромах, откуда и взимают подать с православных: жирную еду, рекрутов для сражений, девок для баловства, кормилиц для питания не окрепших пока чертеняток. Следовательно, и опознаются они не по хвостам, не по серному дыму при дыхании, а, как правило, по тягостям, причиняемым простым людям… Покончится же все это Страшным судом, где обелятся труженики, нечисть же сгинет навеки. На доверчивый вопрос Ивана, помогает ли свячёная вода от нечистой силы, старик отвечал, что очень неплохо воздействует, коли спустить поглубже и малость придержать за хохолок.
– Вот бы повидать ее, темную-то силу! – вздохнул Иван, слушая слабый плеск реки внизу, на отмели.
– Погоди, малый, еще налюбуешься!
Мальчик познакомился с нею в ту же зиму.
5
Крупнейшая лесная операция на Облоге была обставлена с кнышевским размахом. За месяц до начала Титка объездил с угощением все прилежащие деревни, – тут и старухам досталось по стаканчику. Железнодорожники торопили поставщиков. В ту осень первопуток установился ранний, и однажды с рассветом, тотчас за Димитровым днем, тысяча саней со всех концов устремилась к Облогу. После гульбы накануне мужики ехали качаясь и распустив вожжи; у каждого шумело в голове и тускло поблескивал топор за поясом. Непроспавшееся солнце подымалось над бором, когда пали на снежок первые сосновые хлысты. Не втянувшись пока в работу, лесорубы курили и толклись без дела, наблюдая, как более ретивые довершали приземистые курные избушки и всякую подсобную снасть для разделки леса.
– Чего заглохли, окаянные… чего, дятелки, не постукиваете? – торопил и грозился, умолял и науськивал вконец осипший Титка, такой суетливый, что четверился в похмельных глазах мужиков. – Чугунка придет, ситчиком вас завалит… то-то попируем, деточки! А ну, навались, родимые… – и еще разок сбрызгивал свою армию водчонкой.
Тут, как на поджоге, требовалось лишь огонька заронить, дальше само шло, а распродавшийся Золотухин то и дело посылал в Лошкарев за спиртным подкреплением.
– Вот она с чего и не стреляла, не заряжена была… – говорил иной, берясь за рукавицы либо оправляя бороду после чарки. – А ну, где он там, космач-то наш?
Со вторым рассветом грянул железный ливень по Облогу, низовой ливень в тысячу дружных топоров. Рваный гул огласил окрестность, и, как над всяким побоищем, взмыла и загорланила черная птица. Целых два дня бор стоял несокрушимо, словно каждую ночь свежая смена заступала место павших; к концу третьего, когда артели врубились в чащу, Облог дрогнул и заметно попятился; дело пошло спорей. Сваленный лес тут же превращали в тесаную шпалу либо в подтоварник и просто на швырковое полено… потом везли куда-то в сизую, мерзлым туманцем подернутую даль, где раньше в эту пору, бывало, учились подвывать волчьи выводки, а теперь, если только не мнилось уху, уж продирался сквозь тишину паровозный свисток… Сосну берут по март, покуда крепок санный путь, и Кнышев торопился, чтобы с мая взяться за липу, тотчас по началу сокодвижения.
По свойственной ребятам жажде новизны, мальчик с обостренным любопытством, но без страха за своего милого приятеля принял весть о разорении Облога. Наверно, как все лесное в эту пору, спал старик в непролазных сугробах, и невероятным казалось, чтобы даже такая беда пробудила зимнюю спячку Калины. Вдруг на рождестве ужасная тоска потянула Ивана в лес. Вечером накануне ударил морозец, праздничное оживление с утра воцарилось на дороге, усеянной корьем и клоками сена. Навстречу тянулись подводы с разделанным лесом, пела под полозом остекленевшая колея. На полпути Ивана подхватил возвращавшийся порожняком Пашкин отчим. Лошаденка попалась резвая, домчались мигом. Облог объявился точно графитом нарисованный на полупрозрачной кальке. Дальше Иван пошел пешком.
Вкусно, хвойным дымом и смолой несло с лесосеки, где махали топорами, кричали на лошадей, плясали со стужи, разбирали вагами сцепившиеся кряжи и жгли навалы сучья в громадных смирных огнищах. В утреннем сумраке таинственно и розовато светился запорошенный лес. То и дело по нему шарахались тени, когда с мерным выдохом ложились деревья. И уже уносили среди криков молчащего, с немигающим взором бородача, которого Облог лапой нахлестнул, защищаясь повадкой ослепленного болью зверя.
Словно в плечико толканули, мальчик двинулся влево, где за лесным выступом шумел другой такой же табор. Обширная, отлого сбегавшая в лощинку порубь с торчащими кое-где метелками подлеска открылась его растерянным глазам. Он не узнавал Облога и знаменитую рослую сосну, разметавшую в небе снежные космы, опознал лишь по черневшей под нею Калиновой избушке; вокруг нее толпился народ. Из страха опоздать к чему-то главному, мальчик ринулся напрямую через сечу и долго не мог пробиться сквозь людское кольцо, под локтями у взрослых.
– Эй, куда тебя несет, малец? – спрашивал кто-то сверху.
– Я к дедушке Калине, – просительно отзывался Иван, и его пропускали.
На истоптанном дочерна снегу толпились лесорубы. Понуро и недоверчиво, как на диво лесное, взирали они на старика, сидевшего возле своей нетопленной, с распахнутой дверью хатки, на свежем пеньке. Калина был без шапки, какой-то чистенький и помолодевший, на плечи накинут кожушок; медноватый свет его последнего солнца отражался в лысой голове. Видимо, происходила прощальная беседа, однако не она одна привлекла сюда лесорубов. В сторожке подкреплялся медком и рыжиком Калинова засола сам Кнышев, наехавший произвести порядок на Енге. Всем была охота взглянуть на знаменитого деятеля, который, по слухам, вырубил полмиллиона десятин и снял зеленую одежку с трех великих русских рек.
– Так-то, хорошие вы мои, детки несмышленые… – говорил Калина тихо и ровно, словно читал по книге. – К тому я и веду, что прозябнет землица без своей зеленой шубейки и здоровьишко станет у ей шибко колебательное. Будет коровка по семи верст за травинкой ходить, а раньше с аршина наедалася. И будет вам лето без тучек, иная зимица без снегов… и поклянут люди свое солнышко! И захотится в баньке веничком похлестаться, а нету. А случится вам сказывать, как на бывалошних-то пнях человек врастяжку ложился, и внучки вам не поверят. И как побьете до последнего деревца русские-то леса, тут и отправитесь, родимые, за хлебушком на чужую сторонку!..
Слезящимся, невидящим взором он обвел оголенное пространство перед собою, ближний край обреченного леса, лица мужиков, Иваново в том числе, и уже не признал своего юного друга. Та же злая сила, что по частям отобрала у него зубы, радость, русые кудри, пришла теперь за его душою. И опять, к великому огорчению Ивана, не гнев, не жалоба звучали в речах Калины, а только жалость к остающимся.
– Теперь уж чего там головами качать! – так же прощально, словно с другого берега, отвечал один из тех, к кому обращался Калина. – Раз что начато, то надобно заканчивать…
И тогда Иван увидел Кнышева, показавшегося из сторожки в сопровождении постоянной свиты. Это был хорошего роста господин в сборчатой поддевке гладкого синего сукна, нестарый, даже в полной мужской поре, только слегка одутловатый, с водянистыми, выцветшими и чуть навыкате глазами, по каким узнаются убежденные противники виноградного вина, со стриженной по моде своего сословия бородкой, в иных поворотах почти былинный молодец, если бы не крупные уши, похожие на те державки, что приваривают к чугунным трамбовкам для удобства в обращении с тяжестью. Вышел он заметно навеселе и скушал конец Калинова сказа, мизинцем сковыривая вощину с зубов. По сторонам его встали коротконогий Титка, весь подавшись вперед, с длинными, обвисшими вдоль тела руками, и длинный, изможденный, как бы сам себя съедающий Золотухин, с маленькой клювастой головкой на длинной шее и со сверлящим взглядом жестяных непокойных глаз, – уже на склоне лет, хотя покамест седины у него было больше, чем лысины. В знак подчинения заведомой силе Кнышева он стоял с обнаженной головой и свой тяжелый, с высокой тульей картуз держал чуть на отлете в откинутой руке… Кстати сказать, он с самого начала и вместе с сыновьями прикрепился к прославленному мастеру лесного барыша не столько ради заработка, сколько для самообразования на коммерческом поприще. Оба, Титка и Золотухин, обезьяна и ястреб, готовы были ринуться на выполнение любого хозяйского приказа.
– Полно вякать-то, дед… не отпевай Расеи раньше сроку. Да шапку надень, простынешь, плешивый дьявол, – сдержанно посмеялся Кнышев, упруго спускаясь со ступенек, и все поколебались в мысли, может ли действительно такое время подступить, чтоб со всей русской земли банного веника не наскрести. – Эко развел надгробное рыдание, прости господи, а самому небось еще да еще пожить охота… ась?
– Ох, деточки, – простодушно покаялся Калина, – у моря согласен песок считать, абы добавочек выдали! Вот ровно бы и тыщу годов прожил, уж и ноги заплетаются, а пуще меду ндравится она мне… жизнь!
– С чего ж тебе не жить! – покровительственно вставил Золотухин. – Покеда самолично сидишь да еще людей пугаешь, значит, ты у нас еще не старый.
– А я и есть молодой, да вот годков-то на плечи навалилося.
– Вот и живи: тыщу прожил, вторую откупоривай… правильно сказал я, сынки? – бросил Кнышев в расступившуюся толпу под одобрительный гул лесорубов. – Ну-ка, поднеси ему, Титка!
Немедля плоская серебряная фляжечка появилась в проворных руках приказчика. Он налил с верхом, и Калина лишь головой покачал, узнавая родимую, и все облегченно вздохнули, что вот, дескать, и властители, а не обделили старика. Произведя же затравку, Кнышев замолк, и дальнейший разговор вели на сменку его сподручные.
– Небось немало повидал за тыщу-то годов, Калинушка?
– Не счесть, милые, всего было. Ить я в кирасирах служил… кони вороные при черном седле, салтаны на касках: нам обмундировка хорошая полагалася. Опять же завсегда трубачи впереди! То-то, говорю: в кирасирах… потом за год до крестьянского ослобождения в драгунов нас произвели…
– И самому повоевать пришлось?
– В Крыму-то, было дело, коня подо мной ядром зашибло. Я во младости-то, ух, удалой был… в экскадроне песельником состоял.
– Ишь ты! Бровь-то у тебя посечена, видать, от сабли. Охромел не на войне ли?
– Не, то потом… лошадка подо мной оступилася, а нога-то в стремени: бальер брали при самом государе… ну, который нонешнему-то отец. Промежду прочим, на потретах неверно его указывают: он больше в рыжеватину вдарял, усы во всю щеку. – С непривычки Калина быстро захмелел, а у Ивана дважды сердце кровью облилось на его жалкую пьяную разговорчивость. – А еще скажу про лес вам, деточки…
– Про лес ты потом сбрешешь! – оборвал Титка. – Ты нам чего посмешнее доложи. В Санкт-Петербурге небось кухаркам спуску не давал? Столичные-то бабеночки, они форсистые поди, а? – играющим голоском продолжал он, кося глазом в толпу, для снискания симпатии у этой голытьбы, нанятой по четвертаку в день.
– А чего ж дремать-то с ними! – отвечал за Калину Золотухин под невеселый, недружный смех мужиков. – Знай веселись, заводи под корень.
– Забыл уж я про то, годов много… больше о братьях думал, – отнекивался Калина. – Все они перемерли, пока я там в Питере государевы бальеры брал.
– Ай хворость какая?
– Да ведь колюку в недород, перекати-поле по-нашему, ели. Толкли да ели. Видать, объелися.
– Вон к чему чревоугодие-то приводит, – сдуру маханул Титка, и вдруг все помрачнело кругом, и самое солнце от стыда спряталось.
С глазами, полными слез, Иван глядел в снег под собою: подступал конец его сказки. Правда, добрая половина Облога стояла еще нетронутой, но в сознанье мальчика бор перестал существовать одновременно с гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла Калинову кровлю. Оставлять ее было немыслимо: в первую же пургу, при падении, она раздавила бы Калинову сторожку, как гнилой орех.