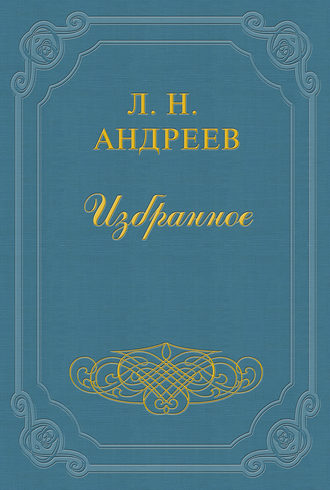
Леонид Андреев
Письма о театре
9
Конечно, для того, чтобы быть хорошим драматургом для старого театра, необходимо знать его особенную структуру, язык его условностей, – в этом смысле совершенно прав Евреинов. Здесь уж не софиты – здесь дело много сложнее. Минуя всем известные условности декораций, грима, того или иного освещения, деления на акты и картины и т. д., я остановлюсь только на важнейшем для меня вопросе: об условной театральной психологии.
Когда я говорил, что старая драма не знает психологии, это нужно принимать в том смысле, что старая драма знала и знает только условную психологию – нечто, совсем отличное и от психологии жизненной, и от литературной. О первой говорить не стану – она есть лишь виноград, из которого еще нужно сделать вино искусства; а в литературе, в ее лучших образцах, мы встречаем такую силу психологической разработки, при которой правда души, быть может, узнается только впервые. Тьма, в которую со времен древних была погружена душа человека, постепенно рассеивается. Как море, гладкая поверхность для древних, теперь мало-помалу открывает тайны своих глубин, так лот психолога уже открыл немало сокровенных тайн души, местами – как у Достоевского – нащупал самое дно, тинистое и страшное, черное и глухое под массою прозрачных вод. Уже и в сны проник психолог-романист – в ту таинственную область, где царят совсем особые законы: вспомните старую литературу, где люди как будто совсем не спали – так мало видят они снов! (Вопрос о снах интересно разрабатывается в талантливом театре «Кривого Зеркала»: «Сон» Гейера, например. Не забудьте в то же время, что этот театр серьезным не считается!)
Ища только правды душевной, не подчиняя себя театральным законам «действия и зрелища» (я уж не говорю про свирепый закон единства времени, действия и места, к счастью, давно упраздненный), психолог-романист спокойно ставил и разрешал свои задачи, не торопясь исследовал душу как таковую. В свободе от действия и зрелища, от условности театральной была его сила. И очень возможно, что тот же Достоевский, романы которого так удобно укладываются теперь для сцены, явил бы собою весьма посредственного драматурга, вздумай он писать драмы для тогдашнего театра: в борьбе с софитом и режиссером он потерял бы всю свою силу. Свободно переходя от диалога к монологу, растянутому на десятки страниц (Нагель в «Мистериях» Гамсуна), бросая внешнее для внутреннего, целые главы начиная словами: он думал, что… (Толстой), романист до бесконечности углублял душу своих героев, приближал ее к нашей, приближал ее к правде души вообще. Мало ему этих средств – просто начнет говорить от себя, пояснять, догадываться; то изнутри смотрел, то вдруг взглянет со стороны – меняет точки зрения, всяко ищет и всяко находит.
Это совсем не ново, то, что я говорю, но оно станет ново и интересно, если теперь потрудитесь провести параллель между этой психологией романа и ее приемами – и условной, укороченной, ободранной до голого тела, нищенской психологией драматического действа.
У балета, как известно, есть свой язык телодвижений и мимики: что-то вроде того, что бежать очень долго на одних носках – значит выразить полную невинность души и в то же время страх или любовь. Есть свой язык и у клоунов: напр, пощечина, как выражение гнева, ввернутые внутрь ноги, как характеристика глупости и раззявства. Но едва ли все знают, что точь-в-точь такой же язык есть и в серьезнейшей драме; и применяется он как раз для выражения важнейшей стороны вещи: ее психологии. В «Вампуке» вдруг приходит некий господин и заявляет: «Я вас покорил!» – и тотчас же все принимают покорные позы и повторяют с глубочайшей верой: он нас покорил. Но это делается не в одной «Вампуке» – этими же простыми до глупости приемами живет драма. Это – условность, только.
Прежде всего здесь требуются верующие зрители, когда же они есть, дело идет просто и легко. Надо выразить большое горе – заплакал; горе поменьше – положил голову на стол. Положить палец на губы или как бы невольно посмотреть вслед ушедшему – это значит: жена изменяет своему мужу, дело не чисто. Схватиться за голову, дать пощечину, вбежать, а не войти, смеяться для радости и рыдать для отчаяния, выпячивать губы, морщить лоб, делать синяки под глазами и прочее – это все условный язык драмы, столь же общепринятый, как условный стук Морзе для телеграфа. Да и не в телеграфе ли здесь дело? – посмотрите на условный маятник условных часов: с какой недопустимой быстротой отчеканивает он условные секунды!
Но это только язык, вещь второстепенная: ведь и по телеграфу можно передавать Библию… может быть, существо психологическое и не тронуто?
К сожалению, здесь язык совершенно соответствует существу передаваемого. Телеграфный язык прежде всего требует быстроты – и вы посмотрите, как в современной драме безбожно ускорены все психологические процессы и переживания: любовь, ревность, гнев, подозрение, болезнь, смерть (психологически), как поспешно взбирается актер по лестнице, где все ступеньки сдвинуты и до самой колокольни всего только два шага? Чтобы яснее представить, какая жестокая неправда в таком ускорении, вообразите, что в Кинемо дается снимок похоронной процессии, но что машинист пьян и пустил ленту с утроенной быстротой: вдова бежит, скачут родственники и сам мертвец несется с быстротою скаковой лошади – где тут похороны! И это есть первая и основная ложь театральной условной психологии, от которой родятся бесчисленные маленькие лжи.
Когда передо мною идет комедия игры и меня откровенно приглашают верить, я могу это сделать, если захочется; так верит ребенок, когда ему хочется играть, что вот этот стул – лошадь. Но и ребенок, веря, прекрасно знает, что все-таки это только стул; и когда ему надоест игра, никакими силами его не убедишь, что стул – лошадь: игра надоела! Он серьезен, он уже хочет смотреть картинки – ступенька вверх! И когда в серьезной драме, а не игре, меня по-прежнему приглашают верить, что поцелуй есть исчерпывающее доказательство любви – я просто не желаю этому верить, а требую доказательств. Доказательств же – я разумею, психологических, – наша драма никогда почти не дает, не знает их. И в этом отношении вся современная драма с ее условным языком и психологией не менее символична, чем приказывающий, но не доказывающий Метерлинк. Разница только в том, что символы ее до крайности элементарны, как лошадь-стул, но в основании лежит все то же: вера вместо убежденности, приказ наместо доказательства.
Вера же всегда была почвой зыбкой и ненадежной, а ныне с усовершенствованием игрушек она и ребенка держит с большим трудом: стул окончательно становится стулом. И наоборот, растет с каждым днем потребность в доказательствах: поумнело сердце, как и голова. И с каждым днем все невыносимее становится современная драма с ее беспочвенной, бездоказательной психологией, морзовским поспешным языком и наивной детской аллегоричностью – символ в конце концов слишком важное слово для обыкновенной игры в куклы!
И пусть все это возьмет себе блестящий выходец со дна, сиятельный Кинемо. Это как раз для него: наивный натурализм вещей, стремительное действие и стремительная псевдопсихология, столь напоминающая похороны вскачь; это для него морзевский психологический язык, нахмуренные брови, страстный поцелуй, шествие на носках для выражения невинности и любви. В психологии он никогда далеко не уйдет – мечтает о ней и также приглашает литераторов единственно от молодого задора и избытка сил, а действие разработает в совершенстве, извлечет новые блистательные алмазы из этого еще не тронутого рудника. Только поскорей бы произошло это разделение властей: церкви от государства, театра – от Кинемо.







