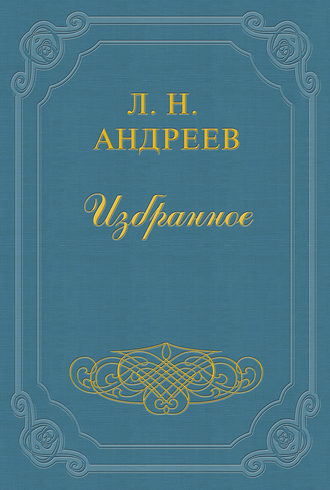
Леонид Андреев
Младость
Нечаев. Жестоко это, Сева, слишком жестоко!
Мацнев. Жестоко? А если бы я умер от чахотки или от тифа – ведь я всегда могу умереть от какого-нибудь тифа, – тогда не жестоко? Оставь, Корней! И почему то, что может сделать со мной любая бацилла – того я сам не смею сделать с собой? И у них есть Надя, Васька, славный мальчишка… и оставим их! Я о тебе, Корней, чудак ты мой милый, ты-то зачем со мной покончишь? Это, брат, уже форменная бессмыслица.
Нечаев. Ты это серьезно?
Мацнев. Но подумай сам, Иваныч…
Нечаев. Тогда и я серьезно. Погоди, не сбивай – мне трудно. – Конечно, я человек малоразвитой, армейский офицер, недоучка и во все эти твои тонкости войти не могу, нет. Смысл, бытие-небытие, зачем и к чему – к этому, извини меня, я равнодушен. То есть не то чтобы совсем равнодушен, а вроде этого: не понимаю. Но зато у меня есть свои основания – понимаешь: свои основания. Очень, конечно, возможно, что без тебя я бы никогда не собрался в эту дорогу, но только потому, что слаб характером и дрянь! Вот. – Покурим? – Луна-то как взлезла. – Да. Поставим вопрос просто: как ты думаешь, могу я стать Наполеоном – я тоже офицер, как и он был?
Мацнев (хмуро). Пустяки это, Иваныч.
Нечаев. Нет, брат, не пустяки. Конечно, я так выражаюсь, но дело тут серьезнейшее, брат. Всякий человек имеет право быть Наполеоном, а если он не вышел – то к чертовой матери все! Вот. Конечно, я не честолюбив, – но разве это хорошо? Это-то и есть главная моя подлость, это значит, что и всю жизнь я могу остаться тем же офицеришкой и не подвинуться ни взад, ни вперед. Помнишь, как я собирался готовиться в Академию, петушился… а что вышло? И как я живу? – совестно подумать, в темноте краснеешь: точно и не живу, а сплю. Вот ты приехал, и я с тобой проснулся, а уедешь ты или… И кому я нужен такой? Ну, конечно, не украду я там или не предам, ну, и добр я до глупости, но разве это настоящее? Нет, та же бесхарактерность, собачье виляние хвостом. Ничтожен я, Всеволод, ужасающе ничтожен. Стыдно подумать!
Мацнев. Не унижай себя, Иваныч, не надо.
Нечаев. Я и не унижаю себя, а надо же говорить правду. И еще скажу тебе самое позорное, о чем даже тебе говорить неловко: ужасно, брат, я некрасив! Другого хоть форма скрашивает, а как погляжу я на себя в зеркало со всеми этими ментиками-позументиками: фу, думаю, какой осел! Нынешней зимой, когда ты был в Москве, знаешь, о чем я размечтался? Не смейся – о монастыре.
Мацнев. Ну, что ты! Какой еще монастырь! Ты шутишь?
Нечаев. Нет, голубчик. Но только посмотрел опять в зеркало – и успокоился: да разве с такой физиономией угодники бывают? И не в том, конечно, дело, что рожа, – а ведь чего я хотел от монастыря? Спрятаться и только, без боя сдать позиции. И все это гнусно до последней степени, и вот тебе мои основания. Кому я нужен такой? Кто обо мне заплачет? И луна эта, и вся эта красота, и там далеко чьи-то прекрасные глаза смотрят в другие прекрасные глаза… но при чем я здесь? Ничтожен я, Всеволод, ужасающе, до боли ничтожен!
Молчание.
Так как же, Всеволод, – принимаешь в компанию?
Молчание.
Мацнев. Нет, Иваныч, пустяки. Какие это основания? Такому честнейшему человеку, как ты…
Нечаев. Да к черту, наконец, мою честность! Ведь это, наконец, оскорбительно: тыкать в нос честностью.
Мацнев. Обижайся или нет, а я говорю, что такому честнейшему человеку, как ты, вовсе не надо быть Наполеоном, чтобы иметь право на жизнь, на уважение и любовь. Пустяки, Иваныч. Ты просто хочешь принести некоторую жертву, а чтобы мне не было трудно, ты вот и придумываешь разные…
Нечаев. Жертва? Допустим. Пусть это будет только жертва, и больше ничего. Конечно, чего стоят мои нечаевские основания с точки зрения бытия-небытия? Вздор, простая блажь! Допустим. Но как ты, человек умный и благородный, не понимаешь сам, сколько надменности и презрения, какая проповедь неравенства в таком твоем отношении? Как ты, человек умный, не понимаешь, что жертва моя – есть мое единственное богатство, моя единственная красота, где я не уступлю никому в мире! Этой минутой единой я всю жизнь мою украшу, этой минутой я вечности достигну! И кому эта жертва? Тебе? Глупо, брат, – извини, но очень глупо! Не тебе, а дружбе! Вот кому, дружбе!
Мацнев (потирая лоб). Да, одна душа – одна душа!
Нечаев. Одна ли душа, две ли – не в этом дело. Но в том дело, что был человек, который для святой человеческой дружбы не пожалел своей жизнишки поганой! Но был человек, который встал, вот так, перед всем миром (встает), и громко сказал: ничего не жалею для друга! Не богатству, Сева, не славе земной, не дрянной любвишке женской – дружбе, Сева, дружбе, дружбе…
Садится и тихо плачет.
Мацнев (обнимая его). Корней, милый ты…
Нечаев. Нет, ты скажи!..
Мацнев. Ну, конечно, вместе! Иваныч, брат ты мой родной!..
Нечаев (не поднимая головы). Не брат, а друг. Брат убил брата, а друг умрет вместе с другом. Всеволод – как прекрасна жизнь!
Мацнев. Прекрасна, Иваныч! Так прекрасна, что…
Молча сидят, обнявшись. Нечаев легко вздыхает, громко сморкается и встает.
Нечаев. Стоп. Сейчас наши придут. Сева, я сегодня петь буду.
Мацнев. Пой!
Нечаев. «На заре туманной юности всей душой любил я милую», – ах, Господи, до чего невыразимо хороша жизнь. Ну – стоп! Еще одно слово: Всеволод, давай кончим на этом месте в воспоминание вечера сегодняшнего… Ты не сердись на сентименты, но тебе ведь все равно…
Мацнев. Нет, не все равно. Давай здесь!
Нечаев. И еще, револьвер или поезд? Револьвер – один может случайно остаться, а потом надо повторять. Поезд, конечно, страшнее, но я думаю, что это не важно – не важно, Сева. А луна-то дура смотрит и ничего не понимает. Но красиво, все красиво, правда, Сева? Вот мы на шпалах сидели – старые шпалы, а тоже поезда по ним ходили… Совсем заболтался я, не слушай. Но только мы свяжемся. Наши идут!
Очень далеко голоса и треньканье гитары.
Да, идут. И Зоя идет – как смешно: Зоя!
Мацнев. Зачем связываться, Иваныч, можно просто взяться за руки.
Нечаев. Разбросает – невозможно! Разбросает! Эта штука, брат, как хватит! Нет, так вернее и ближе. Но это потом, потом, Сева!..
Мацнев. Что, Корешок?
Нечаев. Так, болтаю. Ты меня не слушай. – Ишь, как весело идут. Если бы сегодня я был в лагерях, я напился бы, честное слово!
Мацнев. А вот это зря.
Нечаев. И сам знаю, что зря, а все-таки напился бы. И Горбачеву дал бы по роже. Давно ищу подходящего случая.
Мацнев. Что это за Горбачев – я не знаю его?
Нечаев. Ты не знаешь. Так, дрянь одна. Ну его к черту, подождет, если хочет. (Встает на рельсы и кричит.) Компания! Ого-го!
Кто-то из идущих на мотив тирольского рожка отзывается: а-у! Нечаев повторяет громко: а-у-у! Постепенно все выходят с левой стороны. Говор.
Студент. А нас по мосту не пустили.
Гимназист. Я говорил, что сторож не пустит.
Коренев. А я говорю, что тут ходил. Не пустил оттого, что много народу. Еще бы, если ты будешь выть: царицей ми-и-ррр…
Катя (садясь на откос). Хоть на руках меня несите, дальше я не пойду. Столярова, плюхайся, матушка, тут так принято. Какой песок-то теплый, попробуй рукой. А?
Столярова. Да, совсем теплый!
Около них устраиваются на откосе Котельников и Василь Василия.
Надя. Не соскучились без нас?
Нечаев. Стосковался до последней степени, едва дожил. Садитесь.
Надя. Да и то ноги не держат.
Гимназист. Надо было низом идти.
Коренев. Вот осел! Тебе же говорят, что там нет проходу!
Студент. А что же вы не присядете, Зоя Николаевна?
Надя. Зоя, иди рядышком. Садись.
Зоя. Тут негде.
Мацнев (хочет встать). Вот место!
Зоя. Нет, сидите, сидите, пожалуйста, я устроилась. (Садится между ним и Надей.)
Котельников. Нечаев, отнимите у Василь Василича вашу гитару, он с ума всех свел. Василь Василич, да перестаньте, Христа ради!
Нечаев и студент стоят перед Зоей; оба гимназиста стоят на полотне.
Зоя. Вы отчего не пошли с нами? Было так красиво.
Нечаев. Да и здесь хорошо.
Надя. Корней Иваныч, я загадала, сколько мне прожить еще – знаете, сколько вышло? Еще сто двадцать!
Катя (издали кричит). А мне всего-то три годочка – на четвертом так с рельсы и сверзилась!
Студент. Но Зоя Николаевна сегодня в очень грустном настроении.
Зоя (сухо). Вам показалось. – Всеволод Николаевич, куда же вы? Я вас тесню?
Мацнев. Нет, я так. Засиделся.
Зоя. Посидите с нами!
Мацнев, не отвечая, как будто не слыхал, отходит в сторону, некоторое время стоит один, потом один же садится на откосе. Студент отходит к тем, где Катя.
Коренев (кричит). Надя! А мы послезавтра все на дачу!
Надя. И дядя?
Коренев. Он будет приезжать на праздники. Приезжайте с Севой.
Зоя (Нечаеву). У вас сегодня необыкновенное лицо… Отчего вы молчите и смотрите на меня? – Теперь вас не видно. – Вы молчите?
Нечаев. Это луна-с. Луна строит миражи и рожи.
Зоя. А какая я?
Нечаев. Вы? (Помолчав.) Вы – мираж. Сейчас вы есть, вас делает луна, а когда запоют петухи, вы рассыпетесь.
Зоя. Все рассыпется, когда запоют петухи.
Нечаев. Нет – не все!
Гимназист (Кореневу). А ты можешь подпустить поезд на три шага и только тогда отскочить?
Коренев. Могу. Сделаем?
Катя. А если вздумаете, я вам уши надеру!
Гимназист. Какая строгость!
Катя. А вот и строгость. Надечка, ты поезда боишься?
Надя. Нет, чего его бояться. А ты?
Катя. Ужасно, моченьки моей нет. Василь Василич, зачем вы мучаете бедное животное? Смехота!
Василь Василич. Виноват, я не понял.
Катя. Гитару.
Смех и разговор.
Надя. Зоечка, можно мне поспать у тебя на коленях? (Кладет голову ей на колени.)
Зоя. Поспи, дружочек. – Да, мне грустно, вы правы. – Корней Иваныч, я не хотела говорить этому навязчивому господину, но вам могу сказать. Сегодня утром, когда я сидела у себя в саду, я услышала сзади голос: Зоя! Оглянулась – и нет никого. Но весь день мне чудится этот незнакомый и странный голос, иду, а сзади все время кто-то зовет: Зоя!
Нечаев. Печальный голос?
Зоя. Нет, совсем простой. И я не знаю, отчего, но все во мне так волнуется. Почему все так красиво? Вот я смотрю на луну – почему она такая красивая и такая страшная? Нет, не страшная, но, вероятно, я скоро умру.
Надя (не поднимая головы). Зойка, не говори глупостей.
Нечаев. Зоя Николаевна, послушайте: есть еще один человек, который говорит – зачем эта луна?
Надя (так же). Глупый человек.
Зоя. Постой, Надечка! Кто так говорит: вы или другой?
Нечаев. Другой, но я был почти согласен с ним. А теперь смотрю я на вас и думаю: может быть, луна нужна только затем, чтобы вот освещать ваши глаза и чтобы они – вот так – блестели. Зоя Николаевна, вы знаете: я сегодня безумно, бессовестно счастливый человек!
Зоя. Да?
Нечаев. Да. Сегодня я как какой-нибудь древний царь, которому принадлежит вся земля. Смотрите, сегодня все мое: и луна эта… и ваши глаза…
Надя (сонным голосом). Он совсем с ума сошел!
Нечаев. Там, далеко, в неведомой стране чьи-то прекрасные глаза смотрят на другие прекрасные глаза – и это все мое! И никто не отнимет у меня моего царства, сама смерть не смеет коснуться моей короны! Вот. Важно, а?
Катя (кричит). Корней Иваныч, что же это, голубчик, смеетесь вы над нами? Обещал всю дорогу петь, а хоть бы кошка замяукала! Знала б это, лучше бы дома спала, чем по ночам шататься.
Коренев. А Василь Василич пел – это не кошка?
Гимназист. Это не кот наплакал?
Нечаев. Я готов, Катенька. Что прикажете?
Котельников. Отдайте гитару, Василь Василич.
Василь Василич. Нате.
Катя. Что же мне вам приказать? (Поднимается.) Ой, ногу отсидела! Ой, голубчики, помираю! Столярова, держи меня! Пойте что хотите… ой, ой, колет!.. «Андалузскую ночь»… ой! Нет, отходит.
Нечаев. Слушаю-с. Все, что прикажете.
Настраивает гитару, переданную ему Котельниковым. Все собрались около, кроме Мацнева.
Зоя. Надечка, заснула? Пусти, девочка. Корней Иваныч, садитесь на мое место.
Надя. Заснула. Фух – какая луна! Нечаев (садится и чувствительно поет).
Кончил. Молчание.
Катя. Господи! А как хорошо в Андалузии! Испанчики, испаночки, и глазки у всех черненькие. И луна там какая, не нашей чета. Что у нас за луна: раз всего в месяц, и разгуляться-то некогда!
Котельников. Космография!
Катя. Не в космографии дело, эх, идолы вы каменные! Голубчики, а что-то и мне захотелось попеть. Иван Алексеич, давайте-ка грянем «Ночи безумные»[4], где наша не пропадала!
Котельников. Давайте. Корней Иваныч, помогайте.
Под аккомпанемент Нечаева тихо спеваются.
Надя. Зоечка, а где же Сева?
Зоя. Он все один, Надя. Вон он. Ты бы прошла к нему.
Гимназист. На мосту звонили, сейчас поезд пойдет!
Катя. Ох, батюшки, а успеем?
Нечаев. Успеем.
Катя. Нет, я уж лучше тут стану, а то запоешься, да и не заметишь, как голову оттяпало. Ну?
Поют «Ночи безумные». В середине пения начинает, в перерывы, слышаться гул подходящего поезда – далекий свисток.
(Поет.) «…В прошлом ответа ищу невозможного». – Коренев, сходите с полотна! Я вам!.. – «Вкрадчивым шепотом вы заглушаете звуки дневные, несносные, шумные…»
Надя подходит к Всеволоду, что-то говорит, но тот не отвечает; Надя осторожно заглядывает в опущенное лицо и возвращается к Зое.
Катя и Котельников (поют). «…ночи бессонные, но-о-чи безу-у-мные».
Кончили. Сильнее гул поезда. Свисток.
Надя (с испугом). Зоечка, кажется, Сева плачет. Пойди к нему.
Зоя. Да что ты!
Надя. Я боюсь. Пойди к нему. Что с ним?
Идут к Всеволоду.
Гимназист. Господа, с полотна! Идет.
Катя. Сами уходите!
Коренев. Пассажирский, три фонаря! Скорее! Надя (подойдя). Всеволод! Севочка! Зоя (наклоняясь). Дорогой… Всеволод Николаевич, что с вами? Голубчик, голубчик, Всеволод Николаевич!
Молчание.
Мацнев (как бы отталкивая ее рукой). Оставьте меня! Оставьте.
Грохот поезда заглушает все разговоры; на рельсы ложится желтоватый свет фонарей.







