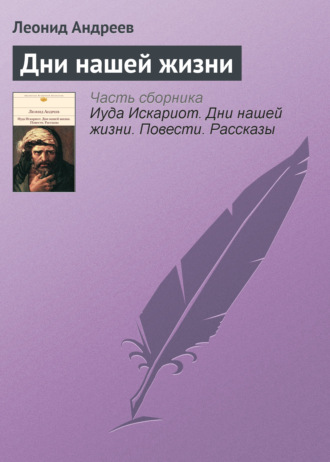
Леонид Андреев
Дни нашей жизни
Зинаида Васильевна. Почему же непременно отделаться, Глуховцев? А если человек убежден, что данный факт или данное лицо…
Онуфрий. Вот бы нас сейчас да в тихое семейство.
Глуховцев. Не балагань, Онуфрий. Меня возмущает легкость, с которой этот господин пришпиливает ярлычки. Мы не насекомые…
Онуфрий. Мы травоядные алкоголики.
Глуховцев. Онуфрий! Господа, или спорить, или дурачиться, – я этого не понимаю.
Анна Ивановна. Вы пьяны, Онуфрий Николаевич. Повторите, Михаил Иванович, что вы сказали.
Мишка (угрюмо). То и сказал. Сказал, что ваш Фридрих Ницше – мещанин.
Глуховцев. А ну вас всех к черту! (Идет к Ольге Николаевне.)
Онуфрий. Не уходи, Коля, мы сейчас заставим его извиниться. Михаил, прошу тебя, возьми слова твои обратно.
Глуховцев (Ольге Николаевне). Нет, ты подумай, Оля, эта пьяная каланча, этот тромбон вдруг заявляет, что Ницше мещанин. Это великий, гениальный Ницше, этот святой безумец, который всю свою жизнь горел в огне глубочайших страданий, мысль которого вжигалась в самую сердцевину мещанства… (Оборачиваясь, яростно.) Мишка, а кто же, по-твоему, я?
Мишка (гудит). Тоже мещанин.
Глуховцев. Ага! Ну, а ты?
Мишка. Тоже мещанин.
Хохот. Спор продолжается.
Ольга Николаевна. Не волнуйся, голубчик. Смотри, уж луна показалась – какая красная. Можно подумать, что пожар.
Глуховцев. Где? Нет, это удивительный осел!
Ольга Николаевна. Да вот же она! Смотри! Господи, какое счастье подумать, что и назад мы пойдем с тобою! Какое счастье жить на свете!
Глуховцев (смягчаясь). Это верно, Оль-Оль, большое счастье! Мишка просто не понимает, что говорит.
Подходит, покачиваясь, Онуфрий.
Онуфрий. Вы тут? Милые мои дети! Простите, что я вмешиваюсь в ваше блаженство, но любовь к людям не дает мне покою. Я уже заметил, когда мы шли сюда, и вообще еще раньше заметил, что вы, дети мои, самим провидением при-у-го-тованы, то есть приготовлены, вы понимаете?
Глуховцев. Не трудись объяснять, понимаем.
Онуфрий. И я, как старший, как духовный отец…
Глуховцев. Духовная мать.
Онуфрий. Нет, именно духовный отец. Я прошу тебя, женщина, как бы тебя ни звали, люби моего Колю. Это такая душа, это такая душа… (Всхлипывает.) И когда вы женитесь и образуете тихое семейство, я навсегда поселюсь у вас. Ты меня не выгонишь, Коля, как этот адвокат?
Глуховцев. Живи, Онуфрий, чего уж там.
Онуфрий (целует его). Я всегда верил в твое благородство, Коля. Мне бы только ящик с книгами распаковать, а то вот уже два года вожу я его из одного тихого семейства в другое тихое семейство. Из одного тихого семейства в другое тихое семейство. А вас, прелестная незнакомка, я могу поцеловать? Как отец. Коля, мой поцелуй чист, как дыхание ребенка.
Глуховцев. Да, только такого, который не меньше года пролежал в спирту.
Ольга Николаевна. Я с удовольствием поцелую вас, Онуфрий Николаевич. (Целует его.)
Глуховцев. Ты на луну лучше посмотри.
Онуфрий. Которая? Вот эта? Какая зеленая. Господа, луна взошла, и притом, заметно, в нетрезвом виде.
Блохин (поет).
И ночь, и любовь, и луна,
И темный развесистый сад…
(Забирается куда-то в непролазную глушь и обрывает.) Кто знает из вас этот романс?
Мишка. Сережа, не форси и не злоупотребляй. Сорвешь голос – как же Вагнера петь будешь?
Зинаида Васильевна. А вы были на «Зигфриде», Михаил Иванович?
Мишка. Присутствовал.
Собираются к краю обрыва в лунный свет. Несколько затихают, очарованные.
Блохин. Мне кажется, что я рас… растворяюсь в лунном свете, что я таю, что меня уж нет. Господа, скажите мне под честным словом: существует Блохин или нет?
Мишка. Какое торжество! Возрадовались небо и земля. Что сегодня – праздник что ли?
Архангельский. Завтра воскресенье. Слыхал, ко всенощной звонили?
Онуфрий. Врешь, отец-дьякон. Сегодня воскресенье. Почему воскресенье должно быть завтра, если оно сегодня? Миша, скажи отцу-дьякону, что ихний календарь – мещанство.
Анна Ивановна. Тишина какая. Вы здесь, Андрей Васильевич?
Физик. По-видимому, здесь.
Анна Ивановна. Подойдите сюда, – отсюда виднее.
Глуховцев (тихо). Оль-Оль, ты любишь меня?
Ольга Николаевна. Люблю. А ты?
Глуховцев. Люблю.
Онуфрий. Вот я в тихом семействе. Тихий месяц, тихи звезды, тиха вся земля.
Блохин. Смотри, выгонят.
Онуфрий (грустно). Не смейтесь, дети мои, над несчастным Онуфрием. Ему грустно. Люди гонят его, как пророка, и даже побивают камнями; но он верит: есть в мире тишина. Иначе как бы могли судить у мирового за нарушение тишины и порядка!
Мишка. Торжество! Но, однако же, пойдем допивать пиво, Онуфрий.
Онуфрий. Пиво? С удовольствием, Миша. Но мне кажется, что я уже выпил все пиво.
Мишка. Я спрятал две бутылки. Пойдем! От этого торжества меня под сердцем сосать начинает.
Онуфрий. Под сердцем? Ах, Миша, Миша! Коротка наша жизнь. Извини меня, Миша, но, кажется, я наступил тебе на мозоль.
Блохин. Ты опять, Онуфрий, извиняться начинаешь. Ночевать тебе в участке.
Зинаида Васильевна. Вам грустно, Михаил Иванович?
Мишка. Да, взгрустнулось. Пива мало взяли.
Зинаида Васильевна. Пиво?.. В такую ночь?..
Анна Ивановна. Холодно! Холодно становится. У кого моя кофточка, господа? Да и собираться надо – пока дойдем.
Уходят на полянку. У обрыва остаются только Глуховцев и Ольга Николаевна. Стоят, крепко обнявшись.
Ольга Николаевна (тихо). Увидят, Коля.
Глуховцев. Пусть.
На полянке громкий разговор.
Мишка. Домой? Домо-о-ой? Кто говорит: домой? Это вы, Анна Ивановна?
Онуфрий. Ложное представление о несуществующих предметах. Дома никакого нет. Дом – это пятиэтажный предрассудок.
Блохин. К… конечно, к… какой там дом. Мы еще костер будем разводить.
Мишка. Верно, брат Сережа. Костер.
Физик. А я желаю наблюдать восход солнца.
Онуфрий. Я буду прыгать через костер, как летучая рыба. Физик, скажи-ка: бублик.
Анна Ивановна. Не надо, не говорите, Андрей Васильевич!
Физик. Нет, скажу. (Подумавши.) Булбик.
Онуфрий. Верно, Физик. Значит, и ты можешь прыгать через костер. Все будем прыгать.
Архангельский. Костер нельзя, братцы!
Мишка. Можно! Можно, отец-дьякон! Что ты, Блоху нашу заморозить хочешь? Видишь, она в одной рубашке.
Зинаида Васильевна. Костер, костер! Кто идет со мной сучья собирать?
Архангельский. Ну и влетит же вам.
Онуфрий. Если ты будешь ерепениться, отец-дьякон, то мы тебя на костре зажарим. И у нас будет постная закуска.
Мишка. Чего там. Айда за сучьями. (Запевает.)
Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради славного житья…
Студенты (поют, удаляясь).
Ради вольности веселой
Собралися мы сюда.
Вспомним горы, вспомним долы,
Наши нивы, наши села.
И в стране, в стране чужой
Мы пируем пир веселый
И за родину мы пьем…
Мы пируем…
Занавес
Действие второе
Тверской бульвар. Время к вечеру. Играет военный оркестр. В стороне от главной аллеи, на которой тесной толпою движутся гуляющие, на одной из боковых дорожек сидят на скамейке Ольга Николаевна, Глуховцев, Мишка, Онуфрий и Блохин. Изредка по одному, по двое проходят гуляющие. В стороне прохаживается постовой городовой в сером кителе. Звуки оркестра, играющего вальс «Клико», «Тореадора и Андалузку», вальс «Ожидание» и др., доносятся откуда-то слева.
Мишка. Так-то, Онуша.
Онуфрий. Так-то, Миша.
Мишка. Я не могу с Блохиным сидеть: на меня все смотрят. Что это, говорят, у Михаила Ивановича такое неприличное знакомство?
Онуфрий. Ты что же это, Сережа, в мундире? На бал куда-нибудь собрался?
Блохин (одетый в парадный, сильно потрепанный мундир). Пошли к черту! Сегодня три рубля на толкучке дал.
Онуфрий. Ну? Недорого.
Блохин. Н… насилу уступил. Просил пять. Г…оворит, что шитья одного на пятнадцать рублей.
Мишка. Покажи-ка!
Он и Онуфрий с интересом рассматривают мундир, пробуют пальцами материю.
Ничего, здорово, только молью поедено.
Онуфрий. И великоват немножко. Ну, да ты, Сережа, подрастешь.
Молчание.
Блохин. Ты что это, Коля, так загрустил?
Глуховцев. Так, ничего.
Мишка. А ты у кого, Онуша, живешь?
Онуфрий. У Архангельского, у отца-дьякона, свой шатер раскинул. А что, братцы, не найдется ли у вас этакого завалящего урочка?
Блохин. Держи карман шире! Сами взяли бы, кабы было что.
Мишка. А животы подводит, Онуша?
Онуфрий. Подводит, Миша. Я бы, собственно, за стол и квартиру.
Блохин. А я рас… расстоянием не стесняюсь.
Мишка. Не скули, Блоха. (Тихонько запевает.)
Настало нам разлуки время…
Студенты (тихонько подпевают).
И на измученную грудь
Тяжело пало жизни бремя;
Но все ж скажу вам: добрый путь.
Бульварный сторож. Тут петь нельзя, господа.
Онуфрий (с удивлением). А разве кто-нибудь пел? У вас, дорогой мой, начинаются галлюцинации слуха. Как ты думаешь, Миша, это очень опасно?
Мишка. Очень! Потому что за ними идут галлюцинации зрения.
Блохин. И о… о… обоняния!
Сторож (сердито). Вам говорят!
Онуфрий. Ты замечаешь, Миша, что с маркизом что-то делается?
Мишка. Я советовал бы вам обратиться к акушеру.
Онуфрий (с удивлением). Но почему же, Миша, к акушеру? Неужели ты предполагаешь какую-нибудь ненормальность в положении ребенка?
Мишка. Убежден.
Онуфрий. Тогда поторопитесь, граф, я прошу вас. Это очень серьезно, и если не захватить вовремя…
Сторож (выходя из себя). Тут петь нельзя! Вам говорят! А то с бульвара прогоню!
Онуфрий. А что, Миша, если я дам маркизу по шее? Благословишь ты меня?
Мишка. Оставь, Онуфрий. Тебя губит любовь к людям. Ты и без того завтра будешь давать отчет мировому в своих дурных поступках.
Онуфрий. Но если – по совокупности? Впрочем, маркиз, я завтра пришлю к вам моих секундантов.
Сторож. А еще студенты! Шантрапа! Голодранцы!
Идет жаловаться городовому. Тот равнодушно, через плечо, взглядывает на студентов и отмахивается от сторожа рукою.
Мишка. Не выгорело!
Онуфрий. Я убежден, Миша, что через две тысячи лет все городовые…
Мишка. Упразднятся? Опасайся, Онуфрий, таких мыслей. Это, брат, чистейшей воды анархизм.
Онуфрий. Нет, Миша, не упразднятся, но будут в новой форме.
Блохин. А это уж кроткий оп… оптимизм.
Мишка. Ну, буде, насиделись. Пойдем шататься, ребята. Николай, ты с нами?
Глуховцев. Нет, мы тут посидим.
Мишка. Трогай!
Уходят. Некоторое время молчание.
Глуховцев. Что с тобою, Оль-Оль? Ты сегодня весь день такая грустная, что жалко на тебя смотреть. Случилось что-нибудь? И мать твоя какая-то странная.
Ольга Николаевна. Нет, ничего. А отчего ты грустный?
Глуховцев. Я-то? Не знаю. Дела плохи, должно быть, оттого. Хорошо еще, что в комитетской столовой даром кормят, а то… Надоело это, Оль-Оль. Здоровый я малый, камни готов ворочать, а работы нету.
Ольга Николаевна. Бедный ты мой мальчик!
Глуховцев. Ну, оставь. Ты плакала? Отчего у тебя под глазами такие круги? Ну говори же, Олечка, ведь это нехорошо.
Ольга Николаевна наклоняет голову и пальцами, обтянутыми черною перчаткой, тихонько вытирает глаза.
Ну что ты, Оля?
Ольга Николаевна. Тебе будет очень тяжело, Колечка, если я скажу. Вон и мамаша идет!
Проходит мимо невысокая старуха в черной накидке и черной потрепанной шляпе. Имеет вид благородный, но в то же время и попрошайнический.
Евдокия Антоновна (проходя). Ты же тут, Оля, сиди, никуда не уходи отсюда. (Жеманничая.) Какой прекрасный вечер, господин студент! (Идет.)
Ольга Николаевна (тихо, с ненавистью). Пошла, проклятая!
Глуховцев. Что ты, Оля?
Евдокия Антоновна (оборачиваясь). Какой великолепный оркестр, Оля: ты не находишь, дружок?
Ольга Николаевна (тихо). Пошла! Пошла! Нет, ты посмотри, какая благородная старушка. А вчера зарезать меня грозилась старушка-то эта, благородная-то эта.
Глуховцев. Говори толком, Оля, что случилось?
Ольга Николаевна (зло). Да неужели же ты ничего не понимаешь? Целый месяц живешь со мною и ничего не видишь. Где же твои глаза?
Глуховцев. Как ты странно говоришь: «живешь». И что я должен видеть?
Ольга Николаевна (отворачиваясь). Что я не девушка.
Глуховцев. Ну видел, положим. Но что же отсюда следует? Правда, это нелепо; может быть, над этим нужно было задуматься, но мне как-то и в голову не пришло. И вообще (с некоторой подозрительностью смотрит на нее), и вообще я действительно не задавался вопросом, кто ты, кто твоя мать. Знаю, что твой отец был военный, что твоя мать получает пенсию…
Ольга Николаевна. Да. Восемь рублей в месяц.
Глуховцев. Ну?..
Ольга Николаевна. Что я содержанка, что я на содержании, ты это знаешь?
Молчание. Ольга Николаевна медленно поворачивает лицо к студенту.
Что же ты молчишь? Коля, Колечка!.. Ты не ожидал этого? Тебе очень больно? Да говори же! Милый мой, если бы ты знал, как я измучилась – вся, вся!
Глуховцев. Да, не ожидал. Но как же это? Да, не ожидал!.. Какая странная вещь!.. Ты – на содержании… Странно! Как же это вышло?
Ольга Николаевна (торопливо). Когда я была еще в институте, она, эта мерзавка, продала меня одному… Ну, и у меня был ребенок.
Глуховцев. У тебя? Да ведь тебе всего восемнадцать лет!
Ольга Николаевна. Ну да, восемнадцать. Ну, и ребенок умер. В Воспитательном… Ну, и потом… не могу я рассказывать, Колечка, пожалей меня, голубчик.
Проходит сильно подкрашенная женщина, по виду из гулящих, замечает пристальный взгляд городового и резко поворачивает назад. Походка развалистая и ленивая. Поглядывает на студента и напевает: «Я обожаю, я обожаю…»
Глуховцев. Так. А у кого же ты на содержании?
Ольга Николаевна. Так, виноторговец один.
Глуховцев. Где же он?
Ольга Николаевна (испуганно). Ты не думай, Коля, что теперь я с ним… и с тобою. Нет, нет! Он уже два месяца как уехал на Кавказ.
Глуховцев. Скоро вернется?
Ольга Николаевна. Он не вернется, Коля. Он прислал письмо, что больше не хочет и что я могу идти куда глаза глядят. И денег за этот месяц он не прислал.
Глуховцев. Сколько?
Ольга Николаевна. Пятьдесят рублей.
Глуховцев. Немного.
Ольга Николаевна. Он очень расчетливый и говорит, что летом, на каникулах, он не может платить столько же, как и зимой. А зимой он платил семьдесят пять… и, кроме того, подарки… духи или на платье.
Глуховцев (с тоскою глядя на нее). И это ты? «Духи, на платье»!.. И это ты, Оль-Оль, мое очарование, моя любовь! Ведь я тебя девочкой считал. Да и не считал я ничего, а просто любил, зачем – не знаю. Любил!..
Ольга Николаевна (плачет). Пожалей меня!
Глуховцев. Отчего же ты не работала?
Ольга Николаевна. Я ничего не умею… Да и где взять работы? Ты сам знаешь. Пожалей меня.
Молчание. Ольга Николаевна тихонько плачет. Быстро проходят два военных писаря: высокий и низенький; последний прихрамывает.
Высокий. И зачем ты себя мучаешь, и зачем ты себя терзаешь, и зачем ты себе жизнь отравляешь, и зачем ты себе делаешь узкие штиблеты?
Проходят.
Ольга Николаевна. Вот ты… в комитетской столовой… А я уж два дня ничего не ела.
Глуховцев. Что? Как же это?
Ольга Николаевна. Да так. Все заложили, все продали, что можно было, а последние два дня голодаем. Голова у меня очень кружится, Коля.
Глуховцев. Ах, ты!.. Но как же это! Ведь это же невозможно, тебе нужно чего-нибудь съесть. Отчего ты сразу не сказала об этом? Я бы…
Ольга Николаевна. Что же ты можешь, Колечка? Ведь у тебя у самого нет ничего.
Глуховцев (в отчаянии). Ничего! Это такой ужас, что можно убить себя. Да нет, я достал бы где-нибудь! Я бы что-нибудь продал… Фу ты, черт, наконец, украл бы. Ведь это невозможно на самом деле: два дня не есть человеку. Оль-Оль, прости меня, голубчик. Я просто осел. Вместо того чтобы расспрашивать… Тебе очень хочется есть?
Ольга Николаевна. Нет. Голова только кружится.
Глуховцев. Я сейчас буду кричать караул, пусть соберутся, пусть посмотрят.
Ольга Николаевна. Ты прощаешь меня?
Глуховцев. Что? прощение? Да как же ты можешь говорить о прощении, когда я должен стать перед тобою на колени и плакать: прости меня.
Ольга Николаевна (улыбаясь). Мне с тобою умереть хочется, Коля. Ты такой добрый, такой благородный!..
Глуховцев (гневно). К черту! Не смей мне говорить о благородстве. Нет, это невозможно! Посиди здесь минутку, я сейчас, я куплю что-нибудь, у меня есть пятачок. И вообще я достану…
Ольга Николаевна (испуганно). Нет, нет, не уходи!
Показывается Онуфрий.
Глуховцев. Онуфрий! Слушай! Голубчик, поди сюда.
Онуфрий (подходя). Что случилось?
Глуховцев. Она два дня не ела. Понимаешь? Два дня не ела. Давай денег!
Онуфрий. Денег? Ты говоришь – денег?
Глуховцев. Ну да, денег, а то чего ж?
Онуфрий (смущенно разводит руками). Прости, голубчик, ни гроша. Понимаешь, ни гроша! Вчера на всю братию был двугривенный, да и тот у Немца пропили.
Глуховцев. Что же, так и умирать, что ли?
Онуфрий. Постой, ты говоришь, два дня не ела? То есть как же не ела, совсем не ела? (Горячась.) Нет, это невозможно. О чем же ты, тупица, осел, думал раньше?
Ольга Николаевна. Он не знал.
Онуфрий. Должен был знать! Вот еще! Постой, Коля, погоди минутку, я сейчас, брат, добуду. Тут Веревкин с какой-то девицею шатается, такая сволочь, никогда копейки не даст. Но я ему горло перерву. От меня он не уйдет! А может быть, Мишку лучше с собой взять – он Мишки боится. А?
Глуховцев. Как хочешь, но только поскорей!
Онуфрий. И до чего все это глупо!.. Ну, держись, Коля, я сейчас! (Быстро уходит, оборачиваясь.) Вы же тут сидите, слышите?
Глуховцев (весело). Он достанет, Олечка! Если уж они с Мишкой возьмутся, так они достанут. Я знаю этого Веревкина, это наш товарищ, ужасно дрянной человечишка! Но они его сумеют припугнуть.
Ольга Николаевна (нежно). Глупенький ты мой!
Глуховцев. Оставь, Оль-Оль! Только бы до завтра как-нибудь протерпеть, а завтра мы все устроим. Бедная ты моя девочка, – ну и мать же у тебя! Но как же ты это допустила? Как можно вообще допустить, чтобы тебя, живого человека, продавали, как ветошку?
Ольга Николаевна. Она грозится, что зарежет меня. Я ночью боюсь с ней спать. Она ведь совсем сумасшедшая!
Глуховцев. Пустяки! Не зарежет!
Ольга Николаевна. Ты знаешь, как она сладкое любит, Коля? Это что-то ужасное. Она и пьет только или наливку сладкую, или ликер, или просто намешает в водку сахару, так что сироп сделается, – и пьет.
Глуховцев. Ты тоже, я заметил, любишь сладкое.
Ольга Николаевна. Я? Нет, я немножко, а она… Господи, вот она!
Показывается Евдокия Антоновна с каким-то офицером. Некоторое время говорит с ним, видимо, в чем-то его убеждая и цепляясь за рукав пальто, потом идет к скамейке. Офицер остается на том же месте, вполоборота к сидящим, покручивает усы и отбивает ногою такт. Музыка играет вальс «Клико».







