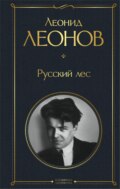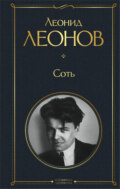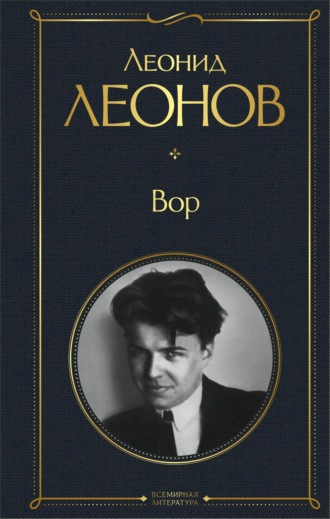
Леонид Леонов
Вор
VI
Неизвестно, где он успел дополнительно побывать после пивной, но теперь Митька был бледен и, может быть, слегка пьян, хотя внешне это не сказывалось ни в речи его, ни в походке. Держался он прямо и насмешливо, только лоб чуть лоснился от бессонной ночи. Следы непогоды темнели вдоль его длинной, нараспашку, шубы, смятая шляпа торчала из кулака. Стоя в дверях, он поочередно оглядел обоих и мало был склонен, по-видимому, к мирной задушевной беседе.
– Ага, поймал, подпольные секретцы ведете? – задиристо бросил он с порога, приглядываясь и не в силах опознать против света чем-то знакомое лицо манюкинского собеседника.
– Здравствуйте, Дмитрий Егорыч, – сказал Фирсов.
– …кто? – опросил тот с колючим вызовом.
– Фирсов, – без заминки ответил сочинитель, возвеселясь чему-то.
– Поди, в тресте бумагой шуршишь? Несуществующие товары переписываешь? – с озлоблением на что-то далекое, наболевшее и свое перечислял Митька.
– Нет, я книжки про людей пишу, – на пробу сообщил Фирсов, не отводя таких же сощуренных глаз.
– А-а… – покровительственно и смутясь чего-то протянул Митька. – А я вот парикмахерствую, головы оформляю. И сколько, понимаешь, ни стригу, ни одной правильной не попалось, круглой… все какие-то, черт, бутылочные! – Без вражды или дружбы пока они изучали друг друга, и вот уже нельзя было с достоверностью утверждать про Митьку, что он пьян. – Опять же выпиваете на невыясненные средства! – укорительно заметил он, пиная ногой пустую бутылку.
Не в меру громкие Митькины восклицания поминутно приводили Манюкина в мелкий пугливый трепет.
– Дмитрий Егорыч, ради создателя, потише! – умоляюще жался он. – Разбудим, так ведь погубит он меня… он же рядом спит, Петр Горбидоныч!
– Спит? – с вызывающей дерзостью возвысил голос Митька. – Кто смеет спать, когда я хожу… мотаюсь взад-вперед по земному шару! Никто не заснет, пока Дмитрий Векшин не уляжется… – И потом, идя на прямой скандал, несколько раз ударил ногой в оклеенную газетами перегородку. – Эй, мелкий чин… – загремел он, к великому ужасу Манюкина, – самовар китайский, чернильная кляуза, вставай!
Немедленно за стенкой что-то задвигалось, зашелестело, заругалось, огромное, важное, суставчатое, бесконечно злое. С уличающей бутылкой в руках Манюкин еще метался по комнате, как дверь из коридора распахнулась и влетел разбуженный сожитель, встреченный смешливым приветствием Митьки и легким вскриком Сергея Аммоныча. Существо это, мелкого роста, дрянного сложения и действительно с рыжей кляузной какой-то бородкой, закутано было в спадающее одеяло, из-под которого то и дело высовывались как бы приплясывающие ноги; бегающие с точечными зрачками глаза его так и выщупывали наиболее выгодное в создавшейся обстановке место для начального укола.
– Так-с! – только и вымолвил зловеще Петр Горбидоныч Чикилев, но Манюкин уже затрепетал, и спрятанная было за спиной бутылка с цепенящим душу грохотом покатилась по полу. Тотчас сожитель заглянул справа, слева, и Фирсову показалось, даже через голову назад, после чего, высвободив руку из одеяла, торжественно устремил перст на Манюкина. – Вот, я вас застукал наконец, гражданин Манюкин. Пьянствуете, а налоги, характерно, за свободную профессию платить не желаете? Мало того что нарушаете обязательные постановления, которые служат гражданам путеводной звездой к новой светлой жизни… Мало того что впадаете с кем попало в подозрительнейшие разврат и роскошь!.. – Бутылка валялась иностранным ярлыком вверх, выдавая преступные связи Манюкина. – Но вы еще мешаете работникам ответственного труда исполнять возложенные на них государственные поручения!..
– Какая же в постели работа… сколько я смыслю в этом деле, ведь вы же спали, Петр Горбидонович! – резонно заикнулся Манюкин.
– Зарубите себе на носу, – на высокой ноте резанул тот, – в отличие от некоторых прочих я круглосуточно нахожусь при исполнении служебных обязанностей, так как и во сне не покладая рук забочусь о благе общества. И в помянутом качестве я вам не позволю, я вас раскрою, подвергну изъятию, пресеку… через домком, через милицию буду действовать и даже… – Словом, он еще немало накричал там – о расстроенных финансах республики, о своем истощенном организме, а также о рычагах воздействия на уклоняющихся от долга обывателей.
В совершенном столбняке, затылком откинувшись к стенке, Манюкин и не пытался защищаться, чтобы в дополнительной степени не разъярить своего сожителя. При таком накале, если даже Митька и был чуточку пьян, весь хмель соскочил с него разом. Нужно было немедля остановить, укротить Чикилева, пока тот не покатился по полу во вращательном состоянии, нанося повреждения коммунальному имуществу. И лучше всего было сделать это, воздействуя на мужское самолюбие Чикилева.
– Невест-то распугаешь, кляуза! – засмеялся было Митька, становясь ему на пути. – А еще жениться собрался. Да ты взгляни, какое у тебя лицо, Чикилев. Купил бы себе недорогое зеркальце и устыжался бы хоть по часу в день!
– Ничего-с, я еще девушкам не противен, – молниеносно отпарировал Чикилев, сторонкой пробираясь к ускользавшему от него Манюкину. – Пустите же меня, невыясненного поведения гражданин! – напирал он с кулаками на Митькину грудь.
– Но-но… куда тебе, экий зарывчатый господин? – от души потешался Митька.
– Пустишь? – щурился Чикилев.
– Нет, – смеялся Митька.
– Вор… – теряя всякое соображение, визгнул Чикилев. – Ты есть вор, и мы все это знаем. – Он кивнул на кучку разбуженных жильцов, в причудливых утренних одеяниях толпившихся у дверей. – Погоди, я тебя расшифрую!
– Как ты сказал? – покачнулся Митька, меняясь в лице и странно усмехаясь. – Повтори!
– Ну, вор… – слабым деревянным голосом повторил Петр Горбидоныч.
Тогда, взяв Чикилева за плечи, Митька с добрых полминуты вглядывался в рыжеватое, чуть склоненное перед ним набочок лицо, так что только смертельная ненависть помогла тому не опустить глаз при этом, однако все уже настолько были уверены в печальной чикилевской участи, что готовы были звать милицию к безжизненному телу управдома… как вдруг, выпустив врага из рук, Митька с побитым видом побрел вон из комнаты, провожаемый расслабленным кряхтеньем Манюкина и недоумением самого Чикилева. Впервые на памяти Благуши фирсовский герой уходил всесветно посрамленным, но молчание его одновременно и пугало, потому что, скинутый на ступеньку ниже, человек этот становился еще опасней… Словом, Петр Горбидоныч непременно ринулся бы вослед ему с извинениями, если бы не опасался, что здесь-то Митька каким-нибудь жестом и поправит допущенную оплошность.
Как раз на Митькином пути оказалась потухшая лампчонка, – Фирсов ждал, что он собьет ее ногой, именно так слагалось это место ненаписанной повести. Однако Митькина нога избегла искушения, и тотчас же после его ухода из кучки жильцов выступила на шаг та самая Зина Балуева, которою всего несколько часов назад профессионально любовался Фирсов.
– Вор, ты сказал? – с брезгливой гордостью переспросила она Чикилева. – А ты знаешь ли, кем еще был в своей жизни этот вор и сколько пуль, чьих и каких, ржавеют в тоске по Митькину лбу, знаешь? – Она преувеличивала как прошлые подвиги Митькины, так и его злодеянья, и Фирсов по самому тону ее установил, что лишь глубокая и неистребимая привязанность толкнула ее на людях вступиться за этого павшего человека. – Да если он и берет чужое, так ведь ты лишь по трусости казенного имущества не крадешь! А впрочем… откуда у тебя столько кнопок, все коммунальные постановления по сортирам развешиваешь? Ты даже письма ко мне любовные под копирку пишешь, трус, чтобы на всякий случай оправдательный документ у себя иметь. Ну, надевай сапоги на руки, беги на четвереньках на Митьку доносить! Ох, дождешься ты, Петр Горбидоныч, что опишут тебя однажды в газетке, какой ты… нехороший человек! – С усмешкой оскорбительней пощечины она машинально отвернулась, ища клетчатый демисезон.
Фирсова в комнате уже не было; он совершал первую атаку на неоценимые для него сокровища Митькиной подноготной. Мучительно покрутившись в коридоре близ заветной двери и кашлем испробовав звучность голоса, он слегка взлохматил голову и приотворил дверь. Рядом, за спиной у него раскрывалась не менее завлекательная тайна Зинкиной любви, но Фирсов теперь и грома позади не услышал бы, всеми фокусами внимания сосредоточась на Митьке. Он колебался: именно сейчас, в минуту упадка, своевременным словом поддержки легче всего было пробиться в Митькино доверие, равно как вполне возможная неудача бесконечно отдаляла успех задуманного предприятия.
Митька лежал одетый на кровати, глазами в потолок, а соскользнувшая с плеча шуба валялась на полу, мехом вверх, и рукав мокнул в лужице, натекшей с подоконника. Из личного Митькина имущества только простецкий сундучок виднелся под кроватью да именная кавалерийская шашка неожиданно висела на стене. Словом, ничто в этой комнате, пустой и тошной, как тюремная камера, не выдавало нынешнего ремесла ее владельца. Со стола свисали несмятые, трехмесячной давности газеты вперемежку с запыленной обиходной мелочью. Все указывало, что Митька, только что вернувшийся из путешествия, вообще временный постоялец здесь: поживет и съедет.
– Я к вам этак запросто, без позволенья, товарищ Королев… ничего? – невинно начал Фирсов, притворяя дверь, чтоб не отвлекал глухой плеск скандала. – А если позволите, я даже и присяду! – и сделал беззаботный жест, но предусмотрительно не сел, не получив хоть еле приметного согласия в ответ. – Ну и зубило же этот чертов Чикилев… впрочем, зубило с эпохальным оттенком! – Митька все молчал. – Поразительно, между прочим, очки грязнятся…
– Что ж, протри себе очки, – без всякого выражения процедил Митька.
– Я и протру, если позволите! – Пробный фирсовский камешек предвещал удачу. – Признаться, месяц цельный ищу знакомства… давно и полутайным образом наслышан о вас. Уж больно пестрая молва идет о Векшине: одни чуть ли не в былинные Кудеяры вас зачислили, с последующим переводом разбойника в монахи, другие же русским Рокамболем величают! А один намедни даже советским Чуркиным на людях вас обозвал…
– Кто таков? – угрожающе пошевелился Векшин.
– Да так, один тут, при вдове живет… бог с ним! – уклонился Фирсов, действительно принимаясь за протирку очков, чтоб занять тоскующие руки. – Для меня же ремесло ваше как нельзя более кстати… потому что как вас ни гни, в любую ситуацию сгибай, все равно никто в целом свете за вас не вступится. Скажу, забегая вперед, что в судьбе вашей заключена для меня весьма острая и злободневная темка овладения культурой!.. без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот. – Судя по злому нетерпению в Митькином лице, приспело время назвать себя и обозначить цель посещения. – Видите ли, по роду занятий я до некоторой степени являюсь… – И, поежившись, произнес ненавистное для себя самого слово.
– Сочинитель?.. и чего ж ты на свете сочиняешь, небось доносы вроде Чикилева? – насмешливо переспросил лежавший, покосившись на носок своего сапога. – Да ты видал ли сочинителей-то хоть раз? Они в седых гривах бывают, на манер пустынников, а ты… Ты, братец, уж не легавый ли? – Он стал слегка приподниматься, кажется – за табаком, но Фирсов благоразумно приотступил к порогу. – Куда ж ты, ай обиделся?
Не в характере Митьки было, только что получив несмываемое огорченье, причинять другому такое же, – и все-таки Фирсов решил отложить знакомство со своим героем до лучших времен. Важно было для начала хоть закрепиться в Митькиной памяти, что облегчало повторную атаку в будущем.
– Ничего, и это тоже пригодится мне для повести, благодарю вас… тем более что всего лишь мимоходом, на пробу забежал! – корректно произнес сочинитель, пятясь в дверь и облачаясь в очки, протертые до половинной ясности.
Ничто более не задерживало его тут, и скоро наружная, войлоком обитая дверь бесшумно закрылась за ним. Еще сбегая по лестнице, Фирсов достал записную книжку; привычная к приступам внезапных вдохновений, она сама раскрылась как раз в нужном месте. Нащурив глаза, неузнаваемо осунувшись в лице, Фирсов краткую минутку прислушивался к столкновениям противоречивых впечатлений, а карандаш, подобно танцующему перед стартом бегуну, чертил пока бездельную виньетку. Небогат был первый улов, – Фирсов принялся вынимать застрявшую в неводе рыбешку.
«Манюкин – достаточная для диагноза деталь из отправленного на слом механизма. Усталость человеческого металла, или как отцы обкрадывают потомков. Мужиков считает на штуки, а книги на квадратные сажени. Непременно должна оказаться дочь, вряд ли сын, и тут умный разговор перед разлукой навечно. А культурку-то старую непременно впитает пореволюционная новь; иначе крах. Мы, народ, прямые наследники великих достижений прошлого. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории, так что и мы, руками наших дедов, пахали великие ее поля. И даже очень. Откуда же начинать, однако: 862 или 1917?
Митькин лоб честный, бледный, бунтовской. И Митьку и Заварихина родит земля в один и тот же час, равнодушная к их различиям, бесстрастная в своем творческом буйстве. Первый идет вниз, второй вверх: на скрещении путей – неминуемое личное столкновение и ненависть. Оба вестники пробужденных миллионов, значит жизнь и борьба начинаются сначала? Любая эпоха только разбег к очередной за нею…
Чикилев, старый мой знакомец, недавно описывал мое имущество за невзятие патента на литературные занятия – однако не опознал меня при встрече. Благонадежнейший председатель домкома, финагент по призванию, на службе кличка Солонина в кителе. Должность выполняет резво и радостно, согласно обязательным постановлениям, но, при случае, может скушать весьма многое. Надо отдать ему справедливость, подозрительность его, кажется, происходит от сознания недостатков собственного мышления… Все же карандашу моему гадко писать про него».
В этом месте сломалось острие карандаша. Фирсов спрятал книжку и огляделся. В прямоугольник парадного входа западал легкий резвый снег. Наступало утро, квартиры изливали на лестницу неясный гул. В углу, дрожа от холода, сидел желтый бездомный пес.
– Устал, брат? – высказался Фирсов и не побрезговал погладить рукой его мокрую спину. – Все бегаешь? И я, брат, бегаю, и я обнюхиваю все встречное. Иные думают про нас, что мы с тобой – лишние мечтатели, а мы-то как раз и знаем о жизни лучше всех: запах ее и вкус. И знаешь, несмотря на огорчения и слякоть, она лакомая, выгодная: вкусив, умираешь от нее незаметно. Прощай, собака!
С минуту он мучительно обдумывал, не кликнуть ли ему проезжавшую мимо извозчичью пролетку. Рука нащупала в кармане две холодные монетки, только две. Поэтому он не кликнул, а с неизменной бодростью заспешил пешком.
VII
Привыкший к подводным камням своей профессии, он не слишком огорчался неудачами, сочинитель Фирсов. Опять же, ему еще раньше удалось накопить кое-какие разрозненные подробности о Митьке: скитаясь по трущобам столицы, он неоднократно натыкался на Митькиных друзей, осведомленных о той или иной страничке его прошлого. Подобно трудолюбивой пчеле, склеивал Фирсов воедино собранные пустячки, так что в замысле уже готов был сот, хотя пока и без меда… Тут он и встретил Саньку Велосипеда, мелкого столичного вора, самого, наверно, безобидного изо всей московской плутни.
Неизвестно, чего там наболтал быстро хмелевший Санька за даровым сочинительским угощеньем, но только, по Фирсову, еще совсем недавно Векшин состоял на виду среди большевиков, чуть ли даже не в политработниках небольшой кавалерийской части, чему трудно поверить, учитывая последующие векшинские превращенья, и что следует отнести за счет безудержного авторского стремления любой ценой приукрасить своего до неприглядности падшего героя. Когда же со всероссийских окраин двинулась в поход контрреволюция, то будто бы Векшин целую неделю исполнял даже комиссарские обязанности, – тогда-то и приключились с ним крайне загадочные обстоятельства, так и не получившие в повести удовлетворительного толкования. Санька рассказывал, что в дивизии к Векшину относились с той особой, железною любовью, какой бывают связаны бойцы за одно и то же великое и справедливое дело. Одаренный словно десятком жизней, человек этот водил полк в самые опасные переделки и рубился – будто не один, а десять Векшиных рубились. И когда наваливалась на него белая гибель, неизменно выносил комиссара из любого огня конь, широкогрудый иноходец в яблоках. Ординарец Митькин, Санька Бабкин, впоследствии по кличке Велосипед, говорил про Сулима, что тот имел человецкую душу и ходил ровно как вода.
Фирсов писал:
«…в те годы дрались за великие блага людей, в суматохе мало думая о самих людях. Большая любовь, разделенная поровну на всех, согревала порою не жарче стеариновой свечи. Любя весь мир любовью плуга, режущего покорную мякоть земли, Векшин только Сулима дарил любовью нежной, почти женственной. Когда в одной рукопашной схватке пуля между глаз сразила коня, Векшин так вел себя в тот вечер, словно убили половину его самого. Был очень молод Митя Векшин: не утешили его ни удача, ни вино, ни веселая дружба соратников.
И будто бы ночью он выкрал убийцу Сулима из прифронтового штаба, где тот дожидался допроса, и вывел за березовую, точно дальним пожаром окрашенную, какую-то до дрожи сквозную рощицу. Ему помогал в этом деле Санька Бабкин, послушная Митина тень в те годы. Прямо над колючей проволокой в три кола, в темных кулисах неба висела багровая луна. Даже шелест листьев не нарушал тишины.
– Знаешь ли ты, поручик, кого убил? – тягуче спросил комиссар Векшин, щурясь на растерзанный китель такого еще молоденького, а уже волчонка, достигшего своих чинов в первые же полгода гражданской войны. Тот молчал, потому что после дневной жестокой сечи не угадывал, о ком идет речь. – Ты отнял у меня Сулима… – подсказал Векшин, и будто бы тонкая его бровь вскинулась, как лук, метнувший стрелу. – Теперь отдай мне честь!
Тот повиновался: слишком тревожны были и багрец луны, и мглистая призрачность ночных далей, и трепет озябшей рощицы, и повелительная чернота комиссарских зрачков… Но едва пленник поднес к козырьку нерешительную руку, коротко свистнул воздух, и Векшин отнял ее у офицерика, верно в отместку за Сулима, – так что она упала, как ветка, к его ногам. Несмотря на боевую отвагу, Санька Бабкин, оказавшийся малодушней своего хозяина, глухо охнул при расправе, приседая на росистую траву. Позже, впрочем, он нашел в себе силу оттащить полумертвого в придорожную канаву во исполненье комиссарского приказа».
Неизвестно, что толкнуло Векшина на его вполне бессмысленный поступок: проба нового клинка или опыт волевой закалки или чем-то связать себя хотел, но только вряд ли высокая философия, придуманная ради этого случая Фирсовым. Митин поступок не получил широкой огласки, да и мало ли в ту пору бывало по обе стороны фронта проявлений взаимного ожесточенья… Однако вслед за тем Векшин стал впадать во вредную, потому что молчаливую, задумчивость, лишавшую его сна и внушавшую подозрение товарищам. Вдруг он заболел, и тут секретарь полковой ячейки, Арташез, верный друг и, кстати, солдат той же роты, где в шестнадцатом году бунтовал и Векшин, отправился навестить прихворнувшего приятеля. Как лекарство нес он Мите Векшину весть о представлении его к ордену Революции, радуясь за него братской радостью. На крыльце векшинской хаты его долго не пускал Санька Бабкин; беспоясый и сам местами поцарапанный, он с выпученными глазами врал что-то о заразительности хозяиновой болезни. Арташез оттолкнул ординарца и вошел, – представшее с порога зрелище комиссарского недомоганья потрясло его почти до слез.
По всем правилам классического русского запоя, на чисто выскобленном столе подле деревянной миски с квашеным овощем стояла початая, не первая, видно, бутыль крестьянского первача, – сам же Векшин, сверх прочего повязанный Санькиным ремешком, лежал на полу, издавая всякие несуразные восклицания; осколки битого стекла поблескивали под лавкой… Присев на краешек скамьи, секретарь взял соленый огурец со стола и, осмотрев, словно это могло помочь ему в диагнозе, вернул обратно. Затем, стремясь доказать другу недостойность его поведения, он стал говорить ему многие правильные вещи вроде того, что лучше заниматься живописью на досуге, как художник Федотов, чем пить водку.
– Я замечаю темное облачко в твоей душе, Дмитрий… – не получая ответа, продолжал он тоном врача пока, а не судьи. – Не стесняйся, вынь его нам, положи на стол свое облачко, чтобы мы, твои боевые товарищи, могли его рассмотреть и помочь тебе сообща. Если ты справляешь поминки по любимом Сулиме, то не слишком ли много грусти для одного коня? И, кроме того, некрасивый ночной поступок… ну, с этим! Я и сам имею бешеный характер, но… зачем? Или ты думаешь, что сейчас даже тебе все можно, как огню при сотворении мира?.. то есть что подумал, то и можно?
Векшин лежал на спине, с закрытыми глазами, и лишь слабым движеньем пальцев обозначалось, что он живет и слышит.
– Или ты увидел какую-нибудь дальнюю угрозу в его зрачках? Мне известно, по секрету говоря, кое-кем овладевает порой странное беспокойство. Вот мы бьемся, льем свою кровь и так горим, что и вокруг все обугливается… но когда-нибудь мы устанем и заснем. Тогда ворвется третий, молодой и бешеный, как мы с тобой… не завтра придет, не к нам с тобой именно, без ножа даже. Оглянись на историю, Дмитрий!.. У нас с тобой вон виски седеть начали, а он, возможно, еще и не родился; так что не дано нам ни шашкой достать его, ни хотя бы задарить заблаговременной конфеткой. А может, он уже и ходит в приготовительный класс, учит таблицу умножения, а? Такой прилежный худенький мальчик с мечтательным взором… как были и мы с тобой когда-то. И он улыбается, а я не знаю – чему. И тогда невольно хочется заткнуть все щели кругом, откуда может появиться этот подросший, по неизвестному нам поводу улыбающийся потомок… Теперь передаю слово тебе, Дмитрий: опровергни, дополни или подтверди!
Таким образом он сам подсказывал Векшину мысли, которые оправдали бы любую предупредительную, в отношении будущего, меру безопасности, стоило Векшину головой кивнуть, – тот молчал, однако. Но вдруг тяжкий трехдневный хмель развязал векшинские уста. Пагубные горячечные откровенья его подслушал у двери Санька Бабкин и, конечно, вряд ли продал бы сочинителю за пиво трагедию своего хозяина, если бы не рассчитывал подобрать к ней какой-нибудь объяснительный ключик с помощью просвещенного человека, каким в его глазах был Фирсов. И без того бессвязные, Санька вдобавок передавал векшинские речи на уровне своего пониманья, а Фирсов сверх того приложил к ним свое собственное путаное толкованье. Таким образом, векшинский бред, как он был представлен в фирсовской повести, сводился к мысли, что революция узконациональна, что это русская душа для себя взыграла перед небывалым своим цветеньем.
– Врешь… – в Санькином пересказе кричал Векшин, обнимая гладкий приятелев сапог, чего уже потому не могло быть, что руки у него были связаны. – Еще не остыла моя кровь, еще струится в жилах и бьет пожаром, еще не жил я на свете! Дай мне…
К сожаленью, по тогдашнему его состоянью Векшин не был способен к более толковому изложенью своих взглядов по несомненно интересному вопросу, и, опасаясь неблагоприятного впечатления от описанной сцены, Фирсов вложил в уста Арташеза исчерпывающее рассужденье в том примерно роде, что наиболее благодетельные революции совершаются не ради одной страны, а лишь для человечества в целом, и тот, кто первым вырывается из рабства, обязан поделиться с другими плодами своей победы. Он имел в виду, что любое счастье становится прочным благом, лишь когда оно является уделом всех. «Сам знаешь, кацо, чуть солнышко в одной местности пригреет посильней, немедленно образуются стихийные перемещения воздушного океана с разрушением жилых построек, гибелью виноградников и многими другими нежелательными последствиями!»
Видимо, в тот раз Векшиным были допущены и другие еще более неуместные для его должности выражения, потому что вскоре секретарь ячейки ушел без единого слова на прощанье. Рапорт в политотдел дивизии он писал полдня и неоднократно рвал написанное, прежде чем вытравил малодушные оттенки, способные смягчить вину товарища. Ему пришлось собрать в кулак свою незаурядную волю и побороть зовы дружбы. «Стояла трудная пора, и черные двуглавые орлы со всех сторон стремились на красную столицу…» – так округлял Фирсов этот уже вполне достоверный эпизод.
В повести было довольно живо описано, как денька через два перед фронтом выстроенной части сам Векшин огласил приказ по дивизии о своем отстранении от должности, – исключение из партии состоялось сутками позже. Церемония проходила необычно, но в те годы молодая армия лишь создавала, на ходу примеривая, свои боевые традиции. Шеренги бойцов взволнованно гудели, утро было пасмурно и бледно, серый отсвет его навсегда сохранился на векшинском лице. Вдруг птицы кругом, как при залпе, шумно поднялись на воздух с комковатой пашни, запушенной ночным снежком… Примечательно, что со средины приказа Векшин, как оно и бывает при этом, уже не слышал своего голоса. Дочитав же, встал крайним левофланговым в строй: каждый клинок был на учете. Полк снимался с кратковременного отдыха и уходил в бой.
Спеша на выручку своего героя, Фирсов еще пытался заверить читателя, что Векшин с не меньшим рвением рубился и теперь за честь и свободу молодой республики, даже легенду присочинил на ходу, будто бы его не раз видали одновременно чуть ли не в четырех местах. Но тот же Санька проговорился, что лишь пепел векшинский, скрепленный обручами воли, мчался теперь в седле к поставленной далече цели. Верно одно – что после разжалованья бывший комиссар получил тяжелое раненье, к счастью, обошедшееся без увечья. Когда же гражданская война кончилась, Векшин однажды по весне, прямо из госпиталя, прибыл в столицу.
«Там начиналась вторая, бескровная вначале, схватка с полуотступившим врагом, – писал Фирсов, – только борьба стала хитрей, и оружием ее стали цифры. На каждом уличном углу, в каждом семействе, в каждой голове установился фронт. В витринах вспыхивали приманки нэпа, там и сям загорались цветные огни увеселений, то и дело в беседах с уха на ухо слышался двусмысленный смешок. Исподлобья следили демобилизованные солдаты революции, как расцветали соблазнами магазинные окна, вчера еще простреленные насквозь: теперь они будили голод, страх и недоуменья. Впрочем, Митю не пугали упестрившиеся углы или не в меру залоснившиеся лица. С насмешливым презрением укротителя взирал он на оживление нечистой стихии, льстясь тайной мыслью – «захотел – и стало, повелю – и уйдут!». Он еще не знал, что в ногу с ним вышел его двойник, Заварихин. Тем временем незаметно набежали жаркие майские деньки…»
В один из них Векшин бездельно торчал возле знаменитого в тогдашней Москве гастрономического оазиса, и Санька Бабкин, по прежней верности, находился вместе с ним. Тропический зной установился с утра, и обезглавленные, вдоль и поперек ошнурованные балыки в окне так убедительно истекали жиром на припеке, что и веревочка казалась лакомством. Векшин был голоден. Нарядная и пышная, как аравийская аврора, дама спешила войти в магазин. С простосердечной деликатностью Векшин потянулся было отворить дверь ей, но та, видно, не поняв его намеренья или же в предположении, что уже одолели этот сброд, нетерпеливо стегнула его перчаткой по руке, взявшейся за скобку… кстати, Векшину показалось, что пуговка ударила по нерву в сочлененье пальца гораздо больней, чем та вражеская пуля на фронте. Саньку Бабкина, очевидца его вчерашней славы и нынешних унижений, потрясло растерянное выражение векшинских глаз… Тем временем жена нэпмана уже скрылась в магазине.
К ночи Векшин был пьян. На окраине, в гадкой трущобе лил он на свою боль, раскачиваясь и задыхаясь, острый припахивавший падалью напиток, все приговаривая с пьяной слезой – «а я-то за них человеков убивал!». Санька сидел рядом со строгим лицом и в ожидании, когда потребуется хозяину любая помощь. Именно в тот вечер они познакомились с большинством последующих спутников печальнейшей своей поры. Когда наличные иссякли, Санька добыл для хозяина первые легкие деньги. Из ложной гордости перед товарищем Векшин пытался сделать то же самое на другой день. Он попался на этой полудетской проделке, неуклюжей в смысле ремесла, Санька вместе с ним. В тюрьме, углубившей пропасти и обиды, Векшин стал просто Митькой, а Санька приобрел кличку. Кратчайшего тюремного заключения хватило на то, чтобы утратить всякое отличие от своих соседей по нарам, таких профессиональных громщиков, как Ленька Животик и курчавый Донька.
Изобретательным вдохновеньем бывало отмечено большинство векшинских предприятий, – примененное со знаньем дела, оно приносило значительный барыш. Векшин стал корешем шайки, потому что был главным корнем объединенья. Действуя исключительно по линии частной торговли, он еще пытался уверить себя, что партизанит против ненавистного старого мира, тогда как в действительности новая профессия – ее тайны, уловки, опасности – уже наложила отпечаток на все его поведенье, и прежде всего успела отучить от труда. Блистая удальством выдумки, Митька оставался неуловимым, так что на него с почтением зависти любовался московский блат, беря пример для подражанья. Грязные деньги нэпа текли сквозь брезгливо расставленные Митькины пальцы, дорогая одежда непременно носила следы небрежности, если не надругательства, а жилье его – снятая на имя парикмахера Королева комната, была аскетически пуста, как звериная клетка.
Даже такие тузы, как Василий Васильевич Панама Толстый, отменный фармазон и мастер поездухи, не гнушавшийся, впрочем, и другими отраслями, или шнифер Федор Щекутин, выезжавший еще в царское время на заграничные гастроли, почтительно прислушивались к суждениям восходящего светила. Близко Векшин не сходился с ними, хотя и не сторонился их, – к одному лишь Агею Столярову питал он непобедимое отвращенье. Не говоря об его поистине ужасном облике, достаточно отметить лишь, что самые глаза Агеевы или медлительная, всегда на угол рта съезжающая усмешка – имели способность физически ощутимого, оскверняющего прикосновения.
«Значит, не совсем еще погасли в Митьке хорошие, только плохо примененные задатки. Обескровленные, иссыхающие, еще жили в нем воспоминанья о добре и людской ласке, но когда их бередили, Митька заболевал, леча вином неистребимый недуг обиды», – так из всех сил старался Фирсов в повести примирить читателя со своим героем… К несчастью, автор угодил к нему минуту спустя после того, как чикилевский окрик словно надвое разорвал Митьку. Кроме того, Митькины думы омрачались злосчастной и неожиданной для него самого проделкой с сестрою. Встреча с нею внесла смятение в Митькину жизнь, так что он не знал даже, радоваться ли этому внезапному лучу света в потемках его подпольного существования, бежать ли – пока не осознал его ужасную безнадежность. Все дело началось из-за Василья Васильевича Панамы Толстого…