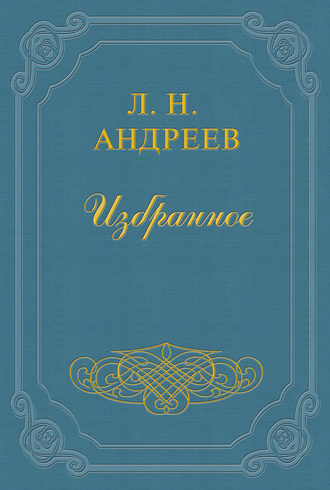
Леонид Андреев
Сашка Жегулев
– Вот что еще доложу, Василь Василич, надо бы Александру Иванычу смотреть осторожнее, а то ведь они и этого, Митрофана-то, чуть на тот свет не отправили, ей-Богу, уж совет держали, да я отговорил.
– Совет, того-этого, – и когда они совещаются?
– Кто их знает, говорят, совет. Конечно, так, болтают.
Всмотрелся Колесников в тихие глаза матроса и сердито качнул лохматой головой:
– Эй, Андрей Иваныч, интеллигент, а вы ведь знаете, кто арестанта зарезал… Еремей, ну?
Андрей Иваныч вильнул глазами и вытянулся:
– Никак нет, Василь Василич, не знаю.
Но с этого случая недоразумения с Васькой Соловьевым и его присными прекратились, парни были трезвы, а если напивались, то подальше от глаз, и сам Щеголь двигался покорно, неслышно и ловко; и уже несколько раз, будучи расторопен, самостоятельно по поручению Жегулева выполнял некоторые дела и назывался в этих случаях также Сашкой Жегулевым.
И не совсем понятный, но твердый царил порядок.
6. Жегулев
В новой лесной жизни с каждым днем менялся Саша Погодин, и на вид имел уже не девятнадцать лет, а двадцать три-четыре – не меньше; странно ускорился процесс развития и роста. Быстро отрастали волосы на голове, и, хотя усов по-прежнему не было, по щекам и подбородку запушилась смолянисто-черная рамочка, траурная кайма для бледного лица; вместе с новым выражением глаз это делало его до боли красивым – не было жизни в этой красоте, ушла она с первой кровью. Исхудал Саша до крайности: почти не спал, ел мало; но в плечах раздался, и поднялась грудь – в прежней груди не уместилось бы новое сердце. Окаменел, – не улыбается, молчит и решительно противится всякому разговору и близости с Колесниковым. Не любит.
– Я тебе не помешаю, Саша? – подходит Колесников, большой, от смущения нескладный и басистый.
– Нет, не помешаешь. Ты что-нибудь хочешь сказать?
– Да ничего особенного. Так, того-этого, поболтать.
«Глупое слово: „поболтать“,» – с отвращением думает Колесников и присаживается, крякнув:
– Так-то, Саша, и вообще, того-этого… Ты доволен, Саша?
– Доволен.
Тяжелое и глупое молчание. Лицо Саши неподвижно, черты резки и как-то слишком пластичны; не мягкою была рука того неведомого творца, что из белого камня по ночам высекал это мертвое лицо.
– Тебе тяжело, Саша?
Саша поворачивает голову и улыбается, как старый на вопрос ребенка.
– Да. Мучусь. Но ведь так, кажется, и надо?
Колесников не знает, куда деваться от этой улыбки, и мается в бессильном молчании. Жалеет его Саша и, чтобы нарушить молчание, говорит:
– Папиросы на исходе, не забыть бы взять. А в общем, я все-таки меньше стал курить, от воздуха, что ли?
– Отчего ты со мной, мальчик, и поговорить не хочешь? – морщится и гудит Колесников. – Подхожу сейчас и думаю, того-этого: каменный ты стал какой-то. Я, Саша, не люблю фальшивых положений, и если ты что-нибудь имеешь против меня, так и говори, брат, прямо. Бей наотмашь, как ведьм, того-этого, в Киеве бьют. Ну?
– Я ничего против тебя не имею… Зачем ты, Василий, думаешь пустяки!
– Честное слово?
Саша снова улыбается, но уже по-настоящему смешливо и ласково, тихонько похлопывает двумя пальцами Колесникова по жесткому колену и незаметно вздыхает. Колесникову тоже хотелось бы улыбнуться, но вместо того он хмурится еще больше и говорит с упреком:
– Бесчувственный ты человек, Саша! Или у тебя анестезия?
– А ты требовательный человек, Василий: то много мучусь, то мало! Теперь, как врач, ты хочешь сказать, что жертвы под хлороформом не принимаются, – так я тебя понял?
– Какой я врач: лошадиный доктор! Смеешься, Саша?
– Нет. И не смеюсь, и не плачу. Но ты напрасно беспокоишься: мне не так плохо, как ты думаешь, или не так хорошо, не знаю, чего тебе больше надо. Все идет как следует, будь спокоен. И, пожалуйста, прошу тебя, к случаю: не заставляй Андрея Иваныча торчать около меня и загораживать, да и сам тоже. Боишься, что убьют? Пустяки, Василий, я проживу долго, тебя, брат, переживу. Не бойся!
Колесников встал и многозначительно протянул руку:
– Руку!
Саша ответил пожатием – и рука была твердая, сухая и холодная: лучше бы не касался ее Колесников!
Но и с друзьями-мужиками Жегулев разговаривал неохотно и скупо, больше сидел в одиночку. И это нравилось: придавало ему вид суровой значительности и выделяло из круга, как одинокое дерево на лесной прогалине, – и вместе, и одно. Выпадали для лесных братьев свободные и все еще веселые вечера, даже более шумные, так как прибавилось народу; тогда, не стесняясь жарким временем, разводили костер на почерневшем, выгоревшем и притоптанном месте, пели песни, ровным однозвучием многих балалаек навевали тихую думу и кроткую печаль. Завелась и гармоника, и музыкальных дел мастер, Андрей Иваныч, играл вальс «На сопках Маньчжурии», подпевая слова. Мужики растроганно сопели и слезливо шмурыгали носами, и даже шутник Иван Гнедых чувствительно высказывался:
– Вот бы наших баб сюда, ах ты, батюшки мои!
И особенно трогали слова:
Кости солдат давно уж в земле поистлели,
А мы же могилы не видели их
И вечную память не пели…
– Хорошие слова, книжные, – говорил Еремей внушительно и окончательно и ободряюще похлопывал Андрея Иваныча по спине, – не робей, матрос, тут тебе не карапь!
Попробовал ту же песню спеть Петруша звонкоголосый, и хотя у него вышло лучше и одобрил сам Василий Васильевич, но мужикам не понравилось: много ты понимаешь, Петрушка, брось, дай матросу. Даже обиделся Петруша и несколько дней совсем отказывался петь, – был он ребячлив, как все истинные таланты, и непрестанно нуждался в сочувствии. И если находила добрая полоса, то пел без устали, не для людей, а для себя, – звучала в нем песня прирожденно, как в певчей птице. Любили его за это и за кротость души: в горячий мятеж мыслей бессонных и тяжело-кровавых дум вносил он успокоение и тихую ласку.
Случалось, долго не может заснуть Жегулев, ищет безнадежно, на чем бы успокоиться мыслью, взывает о забвении – и все напрасно; и только одна милая картина, вызываясь из памяти настойчиво, давала под конец облегчение и легкий сон. Идут они будто бы перелесочком; среди широких кустов березняка и дуба заворачивает дорога, и Саша отстал, не торопится. А впереди, виднеясь одними спинами, идут какие-то люди, они же и разбойники, они же и друзья, они же и вольная воля; идут и потренькивают балалайками, задумчиво и стройно, и в ровном гуле струн будят певчую душу самой дороги. Идут люди и играют, идет дорога и поет грустно и длительно, кротко нисходит в овражек. Одни уж головы да звуки над тихой зеленью невинно и одиноко возрастающих кустов. Идут. Уходят.
От шума гармоники, порою нескладного пения и отчаянного пляса, в котором по-прежнему отличался Васька Щеголь, прирожденный плясун, Саша обычно уходил. Зажигал в шалашике огарок и читал ставшую невыносимой книгу «Крошка Доррит», которую взял за толщину и неизвестно за что: горькой нелепостью казались все эти мистеры и мистрис. А чаще уходил он в лес, в глухое и мертвое одиночество. В десятке саженей от стана, над глубоким лесным обрывом, торчал из земли, на самом крутогоре, старый, позеленевший пень: тут и находил Саша свое одиночество; и еще долго спустя это место было известно ближайшим деревням под именем Сашкиного крутогора. За ним редко кто следовал, и постепенно установился такой порядок, чтобы и не лезть к атаману, раз он удалился на свое место. И про эти часы Сашиного одинокого сидения Еремей выражался так:
– Мозгует Александр Иванович, мозгами ворочает.
Но одну песню Саша слушал постоянно: это милую свою зеленую рябинушку, – отходило сердце в тихой жалости к своей горькой и мучительной доле. А иногда и мучила песня. Как-то случилось, что особенно хорошо пели Колесников и Петруша, – и многим до слез взгрустнулось, когда в последний раз смертельно ахнул высокий и чистый голос:
Ах, да поздней осенью, ах, да под морозами!..
Было молчанье. И в молчанье осторожно, чтобы не шуметь, поднялся Жегулев и тихонько побрел на свое гордо– одинокое атаманское место. А через полчасика к тому же заповедному месту подобрался Еремей, шел тихо и как будто невнимательно, покачиваясь и пробуя на зуб травинку. Присел возле Саши и, вытянув шею, поверх куста заглянул для какой-то надобности в глухой овраг, где уже густились вечерние тени, потом кивнул Саше головой и сказал просто и мягко:
– Об мамаше думаешь, Александр Иваныч?
И, хотя Саша в эту минуту думал как раз о другом, вопрос мужика точно раскрыл истинную сущность мыслей, и, помедлив, Саша взглянул открыто и ответил:
– Да, о матери.
– Так… Подумай, подумай, Александр Иваныч, мы против этого не говорим. Думаешь, так думай, ничего, брат, на то ты человек, а не зверь. Верно?.. Я и говорю, что верно. А достатки-то есть у мамаши?
– Да, она получает пенсию за отца, отец у меня давно умер.
– Вишь, как хорошо, и достаток есть! Я и говорю, что хорошо; и братья, поди, учатся?
– Братьев у меня нет, а сестра учится.
– Вишь, как хорошо, душа радуется, ей-Богу! Прости, Александр Иваныч, если в чем помешал, дай, думаю, пойти покалякать, сидит человек один. Подумай, подумай, это ничего, паренек ты душевный. Сидит человек один, дай, думаю…
Поизвинялся еще, осторожно, как стеклянного, похлопал Сашу по спине и вразвалку, будто гуляет, вернулся к костру. И показалось Погодину, что люди эти, безнадежно глухие к словам, тяжелые и косные при разговоре, как заики, – в глубину сокровенных снов его проникают, как провидцы, имеют волю над тем, над чем он сам ни воли, ни власти не имеет.
И вдруг на мгновение почувствовал себя тем маленьким Сашей, который в ночную пору слушает мощный гул дерев, – вздохнулось легко и печально.
7. Огонь
Плохо обернулось дело: еще человека убил своей рукой Сашка Жегулев; и второе – погиб в перестрелке, умер страшной смертью кроткий Петруша. Произошло это следующим образом.
Довольно рано, часов в десять, только что затемнело по-настоящему, нагрянули мужики с телегами и лесные братья на экономию Уваровых. Много народу пришло, и шли с уверенностью, издали слышно было их шествие. Успели попрятаться; сами Уваровы с детьми уехали, опустошив конюшню, но, видимо, совсем недавно: на кухне кипел большой барский, никелированный, с рубчатыми боками самовар, и длинный стол в столовой покрыт был скатертью, стояли приборы.
– Вот-то чудесно! Чайку попьем, давно, того-этого, за столом не сиживал! – засмеялся Колесников, бывший с утра в хорошем и веселом настроении. – Маша!
– Кого зовешь? – спросил Жегулев.
– Горничную. Маша!
За окнами грабили хозяйственно и тихо, еще не о чем было кричать, разве только под топором затрещит дверь в амбар и около ледника чему-то хохочут; плавают по двору запасенные фонарики. В главном доме было светло и так же тихо, не шумнее, чем при обыкновенных гостях, и в одно из раскрытых темных окон сильно пахло жасмином, только что расцветшим, сиренью и табаком. Митрофан-не-пори-горячку с Васькой Щеголем безнадежно царапался в спальне около несгораемой кассы, пытаясь открыть и горделиво ругаясь, и над ними подсмеивались; восьмипудовый сонный Поликарп с тоской вынюхивал еду. Явилась откуда-то успевшая до красноты заплакаться горничная Глаша в фартучке и, признав в Саше барина, стала к нему под покровительство; и уже через пять минут привычно забегала возле стола, привычно кокетничая.
Тронуло Глашу, что ведут себя так хорошо, и, уж не зная, кто она, горничная или хозяйка, нерешительно угощала, – но вдруг расплакалась, глядя на мужиков, и стала их закармливать:
– Ешьте, голубчики, ешьте! Голубчики вы мои, да разве у нас не хватит? Не все пожрали господа, сейчас и еще принесу.
И Еремей за всех благодарил:
– Много вами благодарны.
Наскоро и голодно куснув, что было под рукою, разбрелись из любопытства и по делу: кто ушел на двор, где громили службы, кто искал поживы по дому. Для старших оставались пустые и свободные часы, час или два, пока не разберутся в добре и не нагрузятся по телегам; по богатству экономии следовало бы остаться дольше, но, по слухам, недалеко бродили стражники и рота солдат, приходилось торопиться.
– Ты что же не идешь, Еремей? – удивленно спросил Колесников. – Сделал бы запасец, того-этого.
– Не. Не хочу, нехай им будет пусто, – ответил матерно Еремей и равнодушно покосился в окно.
Странный был человек: прилип к шайке и деятельно помогал, но сам ничем не пользовался, а дома голодали, был самый несчастный мужик на всех Гнедых.
Колесников мягко упрекнул:
– Не для себя, чудак. Хороший ты мужик, а детей, того-этого, голодом моришь.
Еремей нехотя повернул свое темное лицо, и странно – что-то вроде великолепного, барского пренебрежения и к самому Колесникову, и к его словам мелькнуло на этом мужицком лице; и равнодушно сказал:
– Чего хлопочешь? Не сдохнут щенки.
– У него, Василь Василич, жена с телегой приехала, – пояснил матрос, – она уж его бранила. Шел бы ты и вправду, Еремей, не гордился бы.
Уже с презрением посмотрел мужик на Андрея Иваныча, ничего не сказал и, переваливаясь, вышел. А Колесников подумал: «Как странно бывает сходство: Елена Петровна – гречанка и генеральша, а этот – мужик, а как похожи!.. Словно брат с сестрой. Слава Богу, сегодня все идет хорошо и приятно, и пьяных мало».
– Плескните-ка еще стаканчик, Андрей Иваныч. Пей, Петруша, что не пьешь?
– Не хотится мне пить, Василь Василич, все будто душа не спокойна: не нагрянули бы!
– Далеко, успеем уйти. Пей!
Саша, не оставляя маузера, пошел осматривать комнаты: интересно было чужое жилище в его не успевшей остынуть жизни. Видно было по всему, что жили люди богатые, культурные, ценившие чистоту и порядок; и что-то в красоте убранства напоминало Елену Петровну. А наверху одна комнатка совсем смутила Сашу: была и по размеру, и по белизне похожа на его городскую, и постель с наискось отвернутым для ночи одеялом была его, только не хватало образка. И на несколько минут поколебался каменный облик, и с ним отошло все настоящее; Саша бесшумно и крепко притворил дверь и, не желая входить дальше, остановился у порога. Пахло чем-то прежним, кажется, чистым бельем или даже духами. И в темноте – он погасил свечу – его сердце, покинутое ужасом, затеплилось такой радостью, такой любовью и нежной грустью, словно вышел он на свидание к любви своей. Не думалось об утрате, и невозможность раскрыла двери: вышел он на свидание к любви своей, дал ей первый поцелуй, сказал слова нежности, встречи и прощания, всю уместил ее в сердце, широком, теплом и любовном, как июньская ночь, когда только что распустился жасмин. Совсем забывшись, Саша шагнул к окну и крепким ударом ладони в середину рамы распахнул ее: стояла ночь в саду, и только слева, из-за угла, мерцал сквозь ограду неяркий свет и слышалось ровное, точно пчелиное гудение, движение многих живых, народу и лошадей. Но не понял их значения Саша и, легши на подоконник руками и грудью, прикрыл веками глаза и капля за каплей стал пить пьяный и свежий воздух.
Обеспокоился на минуту, услыхав в коридорчике крепкие шаги и ищущий голос Колесникова:
– Эй, дядя, не видал Александра Иваныча?
– Туды прошел, – ответил кто-то, и снова стало тихо.
И снова ушел в свою мечту Саша. Было с ним то странное и похожее на чудо, что как дар милостивый посылается судьбою самым несчастным для облегчения: полное забвение мыслей, поступков и слов и радостное ощущение настоящей, скрытой словами и мыслями, вечной бестелесной жизни. Остановилось и время.
Но досадно захотелось курить; а когда закуривал и зажег спичку, то вспомнил маузер, и – исчезла тишина. Пытался Саша, повторив позу, вызвать ушедшее, но ничего не вышло, противно заскакали мысли, и потянуло на народ.
– Куда ты запропал, Саша? Нигде тебя не найдешь! – обрадовался Колесников. – На дворе был?
– Да. Налей-ка чаю, Вася, – сказал Жегулев, быстро и весело садясь. – Как у вас тут светло!
– Много пьяных?
– Не видал.
– Здорово! Тебе покрепче, Саша?.. – взглянул Колесников, как из-за очков, поднял удивленно голову и уставился прямо. – Да ты, Саша… чему ты рад, Сашка? Что пьяных мало?.. Ну и чудак же ты, Сашук!
Оба улыбались друга на друга, пока не закричал и не заплясал Колесников, обжегшись кипятком. Подвернулась Глаша в фартучке:
– Позвольте, я налью. А если не крепко, то можно еще подварить, у нас чаю много.
Рояль был раскрыт, и на пюпитре стояли ноты – чуждая грамота для Саши! Нерешительно, разинув от волнения рот, постукивал по клавишам Петруша и, словно боясь перепутать пальцы, по одному держал крепко и прямо, остальные ногтями вжимал в ладонь; и то раскрывался в радости, когда получалось созвучие, то кисло морщился и еще торопливее бил не те. Солидно улыбался Андрей Иваныч и вкривь и вкось советовал:
– А ну-ка сразу по этим!
И тайно конфузился, когда выходило еще хуже, поправляя:
– Да не те, эх, Петруша!
– Александр Иваныч, Василь Василич! – пел Петруша, страдая. – Какая вещь драгоценная, да, ключ-то потерявши, и подступиться не дает.
Саша засмеялся и, подойдя быстро и перегнувшись через Петрушу, заиграл «собачий вальс».
– Это что же такое?
– Собаки танцуют. Слушай!
Попрыгали собачки и сразу на одной ножке сели: не кончив, бросил Саша, – не стоит вспоминать! – и вернулся к столу.
Пришел Еремей, что-то пряча в руке, и за ним хмельной, недовольный и огорченно ругающийся Иван Гнедых:
– Ну и сторонка! Живут люди богато, а взять нечего. И тут наставили, и тут нагородили, и тут без ума намудрили, а взять ни синь пороха не возьмешь, как пригвожденное. Ну и хитрый народ! Михей, вот-то дурак! Зонтик взял, а теперь мается, в дверь пролезть не может, застрял, как в верше. Смехота!
За окнами стало шумнее и набегала тревога: кричали во многие голоса, стукались ободьями и колесами, ругали лошадей. Еремей сурово глянул в сторону окна и сказал:
– Ну и жадный у нас народ, не может порядку установить. Запалить бы, не мигаючи, чего тут!
Но, не договорив, расплылся в широчайшей улыбке и как сиянием окружил себя бородой; и протянул к Колесникову крепко зажатый кулак:
– Глянь-кась, Василь, и что это за штучка?
– Да кулак-то раскрой, вцепился. Ну? Печатка, свою фамилию печатать.
С хрустальной, кругло-граненой ручкой и серебряным штампиком печатка – нечто бесценное, загадочное и блестящее, что могло бы понравиться и вороне, очаровательное тем, что мало, блестит и непонятно.
– А мою фамилию она может? – спросил Еремей, принимая обратно.
– Нет. Брось лучше. Попадешься, худо будет, того-этого.
– Ладно, Василь, брошу, – кротко успокоил Еремей и, улучив минуту, быстро сунул в карман штучку да еще сверху прижал ладонью; поправил бороду и насупился.
Беспокойнее шумел двор – вдруг почувствовалось, что дом чужой, и потянуло ближе к шуму; колеблясь, толкались по комнате, сразу принявшей вид беспорядка и угрюмости. Встревоженная Глаша сперва жалась к столу, где сидели Колесников и Саша, потом исчезла куда-то. Гоготали около найденного граммофона и, смешливо морщась и покачиваясь на нетвердых ногах, божился Иван:
– Эта самая, провалиться на месте, эта самая! Куда пришла, а? Принесла ее летось учительша, повертела мало-мало за хвост, да и пусти!.. Аж дрогнул народ! Тут тебе гнусит, как дьячок, тут тебе кандычит, тут тебе слезьми заливается – смехота!
Смеялись уже не от рассказа, а на него глядя.
– А тут урядник с старостой – шасть: слова, что ли, не те, кто ее разберет, да и в холодную, только и пожила. Несут ее, матушку, мужики жалеют, да мне и самому жалко, я и говорю: не бойсь, машинка! теперь не секут. Ей-Богу, правда, на этом месте провалиться!
К удивлению и пущему смеху смотревших, Иван прослезился, а потом с матерным ругательством хотел ногой ударить граммофон, но не осилил тяжести ноги и чуть не завалился. Запахло в комнате спиртом – видно, не один Иван успел где-то зарядиться, чаще матюкались и точно невзначай пытались что-нибудь разбить или повалить, усиленно харкали и плевались: нарастало жуткое и безобразное. Подтянувшийся Андрей Иваныч внимательно посматривал по сторонам, прислушивался к гудевшему окну и несколько раз, соображая, поглядел на свои серебряные, наградные за стрельбу часы. Свирепо косил глазами и хмурился Колесников: пропало хорошее настроение, и вновь начала томить глухая тоска, под тяжестью которой в последние недели медленно и страшно мертвела его душа…
Жегулев отошел к книжному шкапу и, зажав под мышкой маузер, торопливо перелистывал Байрона, искал страницу и, найдя, остановился глазами:
…Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются…
Заглянул через плечо Колесников и усмехнулся угрюмо и злобно:
– Байрон! Вот, Саша, того-этого, и тут читали Байрона.
Жегулев холодно взглянул на него, неторопливо закрыл толстую в переплете книгу и бросил в угол. И вместе с звуком от падения книги, непонятно смешавшись с ним, пронесся далекий женский вопль. Еще крик – теперь ясный зов на помощь, неудержимый женский визг, противно сверлящий уши, злой и жалкий. Короткий перерыв, точно закрыли ладонью рот, – и опять с той же высокой и хриплой ноты. Затопал ногами; кто-то, свалившись, загрохотал по лестнице – и комната пропала из глаз. Толкнув кого-то и еще кого-то, на долгое мгновение запутавшись в незнакомых переходах, Саша вылетел к запертой двери, за которой словно дохрипывал голос. Потряс: заперто.
– Отвори!
Сзади поддержали, дышит много народу, кричат. Заревел Колесников, но за дверью тихо и ответа никакого, и, напрягшись, высадил Саша дверь. Навстречу ему из полумрака, освещенный только дверью, смутно двинулся толстый, разъяренный Поликарп, а позади него на постели снова противно завизжала Глаша. Что-то крикнул Поликарп, но Саша не слыхал: с яростью, мутившей рассудок, и невыносимым отвращением он раз за разом выпустил десять зарядов маузера, вертя стволом, как жалом, последние пули кидая вниз, в мертвую уже, залитую кровью, разметавшуюся тушу. Пороховою вонью наполнилась комната, как от взрыва. Щелкнув по-пустому, Жегулев обернулся, оскалил зубы на Колесникова и, после короткой борьбы, выхватил у него оружие, повернулся – и тут только понял, что больше не надо.
Заверещала притихшая под выстрелами Глаша и, придерживая выскочившую грудь, выбросилась наружу и бестолково заметалась в толпе мужчин, плакала и кричала, уже никого не боясь:
– Разбойники! Насильники! Га-а-ды! На бабу польстились! Разбойники, Сашки Жегулевы! Га-а-ды!
С отвращением аскета, увидевшего мерзость, с ненавистью любящего, увидевшего в грязи любовь, Саша дернул маузером и дико закричал:
– Молчать, дрянь! У-бью!
Чей-то узловатый кулак ударил Глашу по уху, она упала в дверь и, уже молча, на четвереньках поползла; и дверь захлопнулась. Саша сузил глаза, отчего казалось, что он улыбается, оглядел всех и спросил:
– Ну?
Молчали и, как стена, не имели глаз. Вдруг, все так же пряча взор, шагнул блестящими сапогами Васька Соловей и по первому звуку покорно спросил:
– Не очень ли уж круто, Александр Иваныч?
– Ну? – как масленичная маска, улыбалось лицо Жегулева.
– Не очень ли уж круто, Александр Иваныч? Если за всякую бабу…
К счастью для себя, поднял воровские глаза Соловьев – и не увидел Жегулева, но увидел мужиков: точно на аршинных шеях тянулись к нему головы и, не мигая, ждали… Гробовую тесноту почувствовал Щеголь, до краев налился смертью и залисил, топчась на месте, даже не смея отступить:
– Так точно, Александр Иваныч, ваша воля…
Жегулев крикнул:
– Собрать своих, Андрей Иваныч! Выгнать из кухни баб. Запаливай, Еремей!
Из сада смотрели, как занимался дом. Еще темнота была, и широкий двор смутно двигался, гудел ровно и сильно – еще понаехали с телегами деревни; засветлело, но не в доме, куда смотрели, а со стороны служб: там для света подожгли сарайчик, и слышно было, как мечутся разбуженные куры и поет сбившийся с часов петух. Но не яснее стали тени во дворе, и только прибавилось шуму: ломали для проезда ограду.
– Александр Иваныч, Василь Василич, гляньте-ка, окошечко закраснелося, – повернул головой Петруша.
Во многих окнах стоял желтый свет, но одно во втором этаже вдруг закраснело и замутилось, замигало, как глаз спросонья, и вдруг широко по-праздничному засветилось. Забелели крашенные в белую краску стволы яблонь и побежали в глубину сада; на клумбах нерешительно глянули белые цветы, другие ждали еще очереди в строгом порядке огня. Но помаячило окно с крестовым четким переплетом и – сгасло.
Кто-то из глядящих огорченно выругался и вздохнул:
– Эх ты! Сгасло, проклятое!
Но не успел кончить – озарилась светом вся ночь, и все яблони в саду наперечет, и все цветы на клумбах, и все мужики, и телеги во дворе, и лошади. Взглянули: с той стороны, за ребром крыши и трубою, дохнулся к почерневшему небу красный клуб дыма, пал на землю, колыхнулся выше – уже искорки побежали.
Торопливо затолковали голоса:
– С той стороны зажгли! С той стороны!
И тихо взвился к небу, как красный стяг, багровый, дымный, косматый, угрюмый огонь, медленно свирепея и наливаясь гневом, покрутился над крышей, заглянул, перегнувшись, на эту сторону – и дико зашумел, завыл, затрещал, раздирая балки. И много ли прошло минут, – а уж не стало ночи, и далеко под горою появилась целая деревня, большое село с молчаливою церковью; и красным полотнищем пала дорога с тарахтящими телегами.
И кто с этой стороны, опоздавший и ослепленный пламенем, встречал скачущих мужиков, тот в страхе прыгал в канаву; смоляно-черные телеги и кони в непонятном смешении оглобель, голов, приподнятых рук, чего-то машущего и крутящегося, как с горы валились в грохот и рев.







