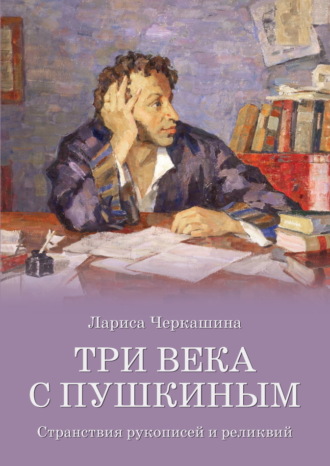
Лариса Черкашина
Три века с Пушкиным. Странствия рукописей и реликвий
Выстрел
И всё складывалось удачно в жизни московской барышни. До того июльского дня, как в далёком Сараеве не громыхнул выстрел: сербский студент Гаврило Принцип разрядил свой браунинг в королевский лимузин, вернее, в его августейших пассажиров – наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу графиню Софию.
Почти невероятно, словно той шальной сербской пулей был смертельно ранен и её любимый Папа! Известие о начале Первой мировой сразило старого генерала: он умер в день объявления войны, став, по сути, её первой жертвой. Но прежде, облачившись в парадный мундир, уже седой сын поэта сел за письменный стол и сообщил императору просьбу: зачислить его в действующую армию… По странному капризу судьбы Александр Александрович Пушкин имел схожее с убитым эрцгерцогом воинское звание – генерал от кавалерии!

Генерал Александр Александрович Пушкин, сын поэта. Москва. 1900-е гг.
Забегая вперёд и зная о близких и доверительных отношениях внучки поэта с Иваном Буниным, её жизнь, любовь, надежды, странствия, потери и, как горький итог всему, одиночество обратились под пером писателя коротким, но таким пронзительно-щемящим рассказом «Холодная осень».
Иван Бунин:
«Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я ещё сидели за чайным столом, и сказал: – Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война! На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну…»
Да, начало Великой войны – так её стали именовать – обратилось величайшей трагедией и для России, и для семьи Пушкиных.
Елена Пушкина, свидетельница грозных событий… Попытка восстановить, воскресить чью-то давно промелькнувшую жизнь – задача не из лёгких. Хорошо, что в веке минувшем люди писали друг другу письма, делились воспоминаниями. И самый вечный в мире материал – бумажный лист – уберёг их живые голоса от забвения. Позволив вновь зазвучать со всей страстностью былым мечтам, обидам и разочарованиям.
Иван Бунин:
«В сентябре он приехал к нам всего на сутки – проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал: – Удивительно ранняя и холодная осень! Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень».
Елена Пушкина уже перешагнула порог первой юности: ей сравнялось двадцать три года. Была ли она влюблена? Легко предположить – да! И быть может, был у неё жених, безымянный «он», ушедший на фронт в первые дни войны.
Иван Бунин:
«Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под её светом маленький шёлковый мешочек, – мы знали какой, – и это было трогательно и жутко».
Упоминание о золотом образке, который мать героини зашила в шёлковый мешочек, а затем благословила заветной иконкой будущего зятя, не случайно. Да и сам обычай зашивать иконку, ладанку, молитву в военный ли китель и офицерскую шинель, в солдатскую ли гимнастёрку или вешать святой оберег в мешочке на грудь имеет давнюю историю.
Подумалось, не рассказывала ли своему именитому собеседнику Елена Александровна о святой ладанке, фамильной святыне, что хранилась в её московском доме и коей столь дорожил отец генерал Пушкин?! И как знать, не святая ли ладанка, что прежде была достоянием поэта, спасала его любимца в грозных сечах русско-турецкой войны. Тогда молодой полковник не расставался с ладанкой, переданной ему матерью, и всегда носил заветный оберег на груди, под гусарским ментиком.
Иван Бунин:
«Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот…
– Капота нет, – сказала я. – А как дальше?
– Не помню. Кажется, так:
Смотри – меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает…
– Какой пожар?
– Восход луны, конечно. Есть какая- то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот…» Времена наших дедушек и бабушек… Ах, боже мой, боже мой!
– Что ты?
– Ничего, милый друг. Всё-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя…»
Замечу, Бунин меняет в стихотворении Фета всего одно слово «чернеющих сосен» вместо «дремлющих» и, возможно, делает то намеренно – впереди у героини тяжёлый и тёмный путь…
Верно, было у Елены Пушкиной памятное прощание с любимым, с кем обрекла её война на вечную разлуку, и этим трогательным воспоминанием, не забытым ею, она поделилась с Иваном Алексеевичем, своим внимательным собеседником.
Иван Бунин:
«Потом стали обозначаться в светлеющем небе чёрные сучья, осыпанные минерально блестящими звёздами. Он, приостановясь, обернулся к дому: – Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер… Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. – Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты всё-таки не сразу забудешь меня? Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я всё-таки забуду его в какой-то короткий срок – ведь всё в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли: – Не говори так! Я не переживу твоей смерти! Он, помолчав, медленно выговорил: – Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я горько заплакала… Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, – в нём был золотой образок, который носили на войне её отец и дед, – и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием».
Пал ли жених Елены Пушкиной (если безымянный «он» действительно был в её жизни) на поле брани в Первой мировой? И так ли горестно, как героиня рассказа, оплакивала она раннюю смерть любимого? Кто может ныне ответить? Так что доверимся Бунину.
Иван Бунин:
«Убили его – какое странное слово! – через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти всё то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым».
Участь Елены Пушкиной схожа с судьбами многих русских изгнанниц, благородных, чувствительных барышень, воспитанных на идеалах добра и гуманизма и безжалостно втоптанных в прах чужой земли немилосердным ходом истории.
Эмигрантка
В семнадцатом Елена Александровна покинула Москву. И как оказалось, навсегда. У Бунина год назван иным, но нельзя требовать строгой хронологии от художественного рассказа.
Иван Бунин:
«Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, – то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар».
Тогда, осенью семнадцатого, в Москве разгорелись жестокие уличные бои. Большевистские пушки прямой наводкой били по башням и стенам древнего Кремля, на улицах, загромождённых баррикадами, гремели кровопролитные бои. В московских храмах шли панихиды – отпевали юнкеров, почти мальчиков, защитников города: Первопрестольную охватил хаос. Елена с матерью решились покинуть обезумевший город: путь обеих лежал в Крым – этот пока ещё мирный уголок русской земли.
Пушкины владели под Ялтой небольшим имением – возможно, его хозяйкой ранее числилась Мария Александровна Гартунг. Во всяком случае, есть свидетельство, что старшей дочери поэта принадлежал под Ялтой небольшой земельный надел. Была иная причина бежать на юг – в Крыму в то время находился старший брат Елены Николай, офицер белой армии.
Революционный вихрь вскоре достиг и черноморских берегов: безмятежная крымская жизнь подходила к концу. Барону Врангелю не под силу было удержать последний свободный плацдарм, началась эвакуация войск и мирного населения.
Среди сотен беженцев на борт российского линкора поднялись, поддерживая друг друга, и две женщины: мать и дочь Пушкины.
Иван Бунин:
«Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребёнок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребёнка на моих руках».
День, в который Елена и Мария Александровна Пушкины последний раз взглянули на тающий в дымке родной берег, неизвестен. И всё же, сопоставляя факты, можно предположить, что Пушкины покинули Крым одновременно с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной и членами августейшего семейства в апреле 1919-го.
Ведь мать и дочь Пушкины не сразу попали в Константинополь. А вначале оказались на Мальте, что следует из письма Николая Александровича Пушкина. На Мальту из Крыма прибыла и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, сделав там небольшую остановку.
Далёкий средиземноморский остров, волею Павла I, «романтического императора», как «окрестил» его Пушкин, чуть было не оказался одной из российских губерний. Верно, красоты мальтийской столицы Ла-Валетты, рыцарской твердыни, и величественный собор Святого Иоанна, и неприступный замок Великих магистров, и мощные береговые форты не очень-то волновали бедных изгнанниц: главным и мучительным был вопрос – куда же дальше?
Куда ж нам плыть?
Елена Пушкина мыслила здраво, где, как не в Константинополе, снискавшем печальную славу «столицы русской эмиграции», и могла применить она свои профессиональные навыки – безупречное владение иностранными языками: турецким, арабским, персидским, английским и французским?!
Итак, в Малье мать и дочь Пушкины вновь взошли на борт корабля и спустились уже на турецком берегу, в порту Константинополя. Надежды Елены оправдались – она устроилась переводчицей (драгоманом) в российское полпредство. Невесомый «языковой багаж» оказался для неё истинным спасением!
…Как странно, Пушкин, мечтавший увидеть чужие земли, лишь единственный раз вырвался за пределы Российской империи, побывав в Турции. И то лишь в городах, завоёванных русскими солдатами, – Карсе и Эрзеруме. Но поэта занимали турецкая речь, местные обычаи и нравы – все те новые впечатления блистательно отразились на страницах его путевого дневника. Вряд ли пушкинское «Путешествие в Арзрум» было столь же известно в Турции, как в России, иначе турки были бы бесконечно признательны русскому поэту за спасение жизни их соотечественника. Ведь Пушкин вступился за несчастного пленника-турка, коего ждала неминуемая смерть от казацкой сабли, – и та поздняя благодарность скрасила бы жизнь внучки милосердного поэта в Константинополе. Увы, ничего этого не произошло…
Константинополь-Царьград… Бесспорно, ведомо было Елене Пушкиной, что в начале XVIII века здесь, в турецком серале, томился в заложниках маленький арапчонок, волею Петра Великого перенёсшийся в Россию, где и прославил своё имя, – Абрам Ганнибал. Далёкий её предок.
История очертила круг радиусом в двести лет, «забросив» Елену Пушкину в этот таинственный город, «вписанный» в её семейную хронику.
В древнем Константинополе, впитавшем в себя века мировой истории, она встретилась с братом Николаем, сумевшим разыскать жену и детей в Новороссийске и вывезти их из России. Встреча та, казавшаяся столь долгожданной, завершилась, увы, ссорой – Николай Пушкин звал сестру в славянскую Сербию, Елена же настаивала на Турции. Да и тому свиданию брата и сестры суждено было стать последним.
В сентябре 1919-го умерла мать Мария Александровна Пушкина, и Елена осталась одна в чужой стране. Но тут судьба даровала ей нежданный подарок – Любовь. В турецком Константинополе Елена встретила Николая Алексеевича фон Розенмайера, офицера белой армии, и в ноябре 1921-го в русской церкви обвенчалась с ним.
Избранник её прежде служил в 9-м гусарском Киевском генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полку. Ранее же, до 1910 года, гусарский полк именовался в честь своего шефа – короля Великобритании Эдуарда VII.
В истории Белого движения не забыты жаркие схватки кавалеристов Киевского полка. В начале 1919-го его гусары отчаянно бились с махновцами и красными под Мариуполем. Затем полк был переброшен под Харьков. В сентябре – октябре того же года киевские гусары дрались с бандами махновцев под Александровом, а уже в декабре вынуждены были отойти в Крым. Зимой девятнадцатого – начала двадцатого киевские гусары доблестно защищали Перекоп. Возможно, здесь, в одной из яростных кавалерийских атак, и сражён был красноармейской шашкой ротмистр фон Розенмайер.
Он выжил. И в ноябре 1920-го вместе с уцелевшими однополчанами погрузился в Ялте на корабль, взявший курс к турецким берегам. Его боевые товарищи оказались в Галлиполи, в военном лагере, где составили один из эскадронов русского кавалерийского полка, Николай Алексеевич остался же в Константинополе, где и повстречал Елену Пушкину.
…В феврале 1923 года в семействе фон Розенмайер родилась дочь Светлана. Единственная и такая желанная.
Иван Бунин:
«А я ещё долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжёлым чёрным трудом».
Вот с этого-то времени и берёт начало одна удивительная история.
«Гофманиана»
Вернее, годом ранее, в 1922-м. Тогда-то Елена Александровна и отправляет письмо в Париж торгпреду советской страны Скобелеву, предлагая приобрести у неё для Пушкинского Дома фамильные раритеты: гербовую печать поэта, черепаховый веер Наталии Николаевны и её акварельный портрет. Вроде бы верный шаг, ведь Матвей Иванович Скобелев, к слову, меньшевик по убеждениям, первым начал полулегальную работу в Париже для подготовки торговых сношений с Францией. Все усилия направлял на то, чтобы Франция признала Советскую Россию и её правительство, и довольно-таки преуспел в том, раз имя его было на слуху даже у эмигрантов.
Да, действительно, Матвей Скобелев успешно выстраивал торговые отношениям Страны Советов с Францией, а заодно и с Бельгией. Затем удачливый торгпред возвратился в Москву, где в 1937-м и попал в «ежовые рукавицы»: по распоряжению Николая Ежова его ждали арест как «участника террористической организации» и скорый… расстрел.
Но тогда, в начале двадцатых, имя Скобелева ассоциировалось для русских эмигрантов с деньгами и властью. И прими Матвей Иванович, первым распечатавшим письмо внучки поэта, иное решение, как знать, не пришлось бы ныне разгадывать тайну исчезнувшего дневника? Но события развивались по другому сценарию, непредсказуемому.
В том же 1922-м в Париже неожиданно появляется посланец Советской России Модест Людвигович Гофман. Необъяснимо, как среди всеобщей разрухи в стране, где ещё не стихли отзвуки канонады Гражданской, из Петрограда во Францию командирован представитель Российской академии наук с целью озаботиться судьбой Онегинской коллекции?! И в конечном счёте – добиться её возвращения в Россию.
Кто же он, владелец той уникальной коллекции, носивший столь романтическую фамилию? Страстный собиратель пушкинских реликвий, Александр Фёдорович избрал для себя псевдоним любимого героя – Онегин. Псевдоним тот указом императора Александра III был преобразован в фамилию собирателя. По версии, Александр Онегин, появившийся на свет в Царском Селе в 1845-м, приходился побочным сыном одному из великих князей. Так ли то на самом деле? Можно лишь строить догадки.
Преданнейший поклонник Пушкина, он в 1879 году перебрался в Париж и основал там, в собственной квартире, первый в мире музей русского гения, прообраз будущего Пушкинского Дома. Редкостное собрание парижской Пушкинианы: автографы поэта, его рисунки, портреты современников, их письма…
На встречу с Онегиным, человеком удивительным, и отправился по прибытии в Париж блистательно эрудированный Модест Людвигович Гофман – эстет от пушкинистики: филолог, историк литературы, текстолог. Любимый ученик основателя Пушкинского Дома Бориса Модзалевского, чему свидетельством его лестный отзыв: «Знаний у него бездна, знает Пушкина как никто другой; деловит, предприимчив, энергичен. Он со всякою задачей справится и из самого затруднительного положения выйдет с честью».
Гофмана не назовёшь кабинетным учёным: ещё прежде, в начале века, он объездил тверские имения Вульфов, Понафидиных, Великопольских, с владельцами коих был дружен Александр Сергеевич, подолгу бывая в тех местах, где муза была неизменно благосклонна к поэту.
Модесту Гофману повезло найти в Старицком уезде немало раритетов, соединённых с именем Пушкина: его рукописи, альбомы, записные книжки друзей поэта, их портреты. Благодаря Гофману Пушкинский Дом обрёл главы «Евгения Онегина» с дарственными надписями Евпраксии Вульф, милой Зизи, и её матушке Прасковье Осиповой, дневники Алексея Вульфа, переписку родственных семейств Вульфов и баронов Вревских.
В Малинниках Гофманом найдены три письма поэта, обращённые к соседке Прасковье Александровне Осиповой, где читались и такие строки: «Примите, сударыня, уверения в совершенном моём уважении и преданности. Поручаю себя памяти всего любезного семейства вашего».
Ранее молодому учёному посчастливилось сделать не менее редкостные находки в псковских имениях приятелей поэта. Все эти бесценные реликвии, без сомнения, бесследно исчезли бы в революционных вихрях и пожарищах, как и сами старинные родовые усадьбы. Кто тогда бы смог разыскать давние письма, альбомы и миниатюры в комодах и сундуках разорённых дворянских гнёзд?!
И вот в 1922 году Модест Людвигович Гофман, сотрудник Пушкинского Дома, был командирован в Париж как знаток наследия поэта. Но более в советскую Россию он не вернулся.
Видимо, уже при первой встрече Александр Фёдорович Онегин предъявил гостю письмо из Константинополя. Елена Александровна обращалась в нём к парижскому коллекционеру с тем же предложением, что прежде к Скобелеву. Да, она была бы и рада, подчёркивает внучка поэта в письме к Онегину, передать безвозмездно все эти семейные сокровища России, но сделать желаемого не может, так как они с супругом «остались совершенно без средств».
Самая великая интрига в её посланиях – упоминание о неизданном дневнике Пушкина и других неведомых рукописях, что чудом удалось ей вывезти с собой! В конце письма следует заверение, что она свято исполнит волю отца генерала Александра Пушкина, запретившего печатать дневник до истечения ста лет со дня смерти поэта. И тот запрет – не прихоть и не блажь, ведь живы близкие родственники тех, имена коих упоминает на страницах своего дневника Пушкин, и не всегда лицеприятно.
Да, Елену Александровну не упрекнёшь в сдержанности, ведь она свято соблюдала семейные наказы и традиции.
Загадочный дневник
Стоит вспомнить, что гораздо ранее, в 1858-м, её дядюшка Григорий Александрович Пушкин в письме к министру народного просвещения негодовал, что в московском журнале «Библиографические записки» напечатаны письма покойного отца к младшему брату Льву. По его словам, они «написанные в ранней молодости и имеющие характер совершенно домашний и семейный, и что произвольное издание их в свет есть нарушение всякого приличия». И просил распорядиться (что следует из ответного послания чиновника высокого ранга), «чтобы Цензура, как в С.-Петербурге, так и в других городах России, не одобряла к печати записок, писем и других литературных и семейных бумаг отца его без ведома и согласия семейства умершего поэта».
Тех же нравственных правил придерживался и старший сын поэта Александр. Так что братья Пушкины всегда были на страже чести их великого отца. Недаром же Иван Тургенев жаловался, что сыновья поэта хотят приехать в Париж и «поколотить» его за издание писем Пушкина к жене! Искренне не понимая, в чём же, собственно, его вина? Ведь разрешение на то дала их младшая сестра.
Многие осудили Сергея Соболевского, предавшего письма Пушкина печати, не посоветовавшись прежде с вдовой и детьми поэта. В 1858 году князь Пётр Вяземский с горечью сетовал: «…Пушкин ещё слишком нам современен, чтобы выносить сор из его избы… Мало ли что брат мог наговорить наедине с братом, но из этого не следует, что он тоже сказал на площади. Жена его, дочери, сыновья его ещё живы: к чему раздевать его при них наголо?» Суждение меткое.
Потому-то Александр Александрович Пушкин и противился публикации отцовского дневника, тщательно оберегая его от чужих любопытных глаз. Не особо внимая даже просьбе великого князя Константина Константиновича, августейшего поклонника поэта, просившего предоставить ему для прочтения заветный дневник.
Долгие годы Александр Александрович ревниво хранил дневник отца в своём кабинете, под замком, лишь изредка показывая родным и близким друзьям. После смерти старого генерала, в самый день объявления Первой мировой, реликвия досталась его сыну Александру Александровичу-младшему. Через два года не стало и его, и дневник перешёл в руки Марии Гартунг. Мария Александровна перед кончиной – шёл страшный девятнадцатый год – передала его племяннице Анне Пушкиной, а та в свою очередь на сохранение – Юлии Пушкиной, жене любимого брата Григория.
Юлия Николаевна оказала пушкинистам огромную услугу, приняв единственно верное тогда решение (её супруг Григорий Пушкин, бывший царский полковник, мобилизованный на Гражданскую и ставший красным командиром, сражался на деникинском фронте) – доставить дневник поэта в столицу. Летом того же 1919-го она совершила весьма рискованное по тем временам путешествие: из Лопасни в Москву. Приложив к животу толстенную книгу, зашитую в холст и спрятав её под платьем, она лихо, по примеру баб-«мешочниц», вскарабкалась на крышу «товарняка». «Барыня, беременная, а туда же лезешь!» – шикали на неё со всех сторон. Пушкинский дневник Юлия Николаевна благополучно довезла до Москвы и передала с рук на руки хранителю Рукописного отдела Румянцевского музея Георгиевскому. А на вырученные «керенки» куплены для голодных ребятишек крупа и картошка: ей приходилось вновь одной заботиться о пятерых сыновьях.
И если дневник № 2 столь приключенческим образом стал достоянием публики, то, возможно, другой неведомый дневник отца Александру Александровичу удалось всё же скрыть. И только после смерти старого генерала владелицей дневника оказалась его младшая дочь, вступившая со всеми братьями и сёстрами в равные права наследования. Поразительно, но протокол заседания Московского окружного суда (июль 1915 года), в коем шла речь о разделе имущества умершего генерала от кавалерии Александра Пушкина между его наследниками, уцелел и хранится ныне в столичном архиве.
Жизнь, как всегда, внесла свои коррективы, ведь в последние годы жизни старого генерала лишь Елена, младшая дочь, была рядом с отцом, и семейные реликвии, не признанные судом ценным имуществом покойного, достались именно ей. Позднее она признавалась, что прежде, в отцовском доме, держала в руках заветный дневник деда, заключённый в потёртый сафьяновый переплёт, листала его страницы, но так и не смогла прочитать текст из-за неразборчивости почерка. И вновь возникает вопрос: о каком дневнике вспоминала внучка поэта – об известном или неведомом?!
Поистине бесценным видится ныне интервью Александра Александровича-младшего, напечатанное в популярной тогда газете «Утро России» 29 января 1912-го: «Вчера внук покойного поэта А.С. Пушкина, состоящий гласным губернского земского собрания, Бронницкий предводитель дворянства А.А. Пушкин заявил сотруднику нашей газеты, что у его отца, почётного опекуна А.А. Пушкина, имеется нигде ещё не опубликованный дневник поэта. Кроме того, внуком поэта найден в старинном портфеле пакет с собственноручными записями поэта русских поговорок и пословиц».
Значит, и Александр Александрович-младший, единокровный брат Елены, держал в руках, перелистывал (а быть может, и читал?) таинственный дневник своего деда. Сколь важное и… забытое ныне свидетельство!
Не забудем, Гофман был командирован в Париж, дабы содействовать возвращению в советскую Россию пушкинской коллекции Онегина. Ведь ранее, в царствование Николая II, согласована была с собирателем договорённость о передаче им всех раритетов в имперский Петербург.
Тому предшествовало немало усилий, и не только материального характера. Граф Сергей Дмитриевич Шереметев передал необычный разговор, что вёлся в дворцовом кабинете императора в декабре 1907-го: «Начал (Государь) рассказывать обстоятельно и пространно, начав с вопроса: «Не знаете ли Вы проживающего в Париже Онегина?» Я ответил, что слыхал о нём, но лично не знаю. Тогда он стал рассказывать, как будучи в Париже Коковцов узнал о коллекциях пушкинских, собранных Онегиным, и начал с ним переговоры, известив Государя, которые закончились завещанием Онегина весь свой архив передать в будущий музей имени А.С. Пушкина в Петербург».

Александр Александрович-младший Пушкин (слева), видевший неизвестный дневник своего деда. Бронницы. 1914 г.
Из архива Татьяны Гончаровой-Новицкой.
Публикуется впервые
В те годы граф Владимир Николаевич Коковцов – министр финансов России. Именно он, выпускник Императорского Александровского лицея, понимая особую ценность парижской коллекции, рекомендовал Николаю II приобрести её. Позже, в эмиграции, граф Коковцов вспоминал: «Всё дело перехода Музея в руки Академии наук и охраны его от случайностей и забвения принадлежит исключительно Государю. Нужно было быть докладчиком его по этому делу, чтобы видеть с какой любовью ко всему, что было связано с именем Пушкина и его современников, и с каким неподдельным удовольствием сказал он мне по поводу утверждённого им соглашения Академии наук с А.Ф. Онегиным: «Хорошее русское дело мы сделали с Вами».
Увы, почти забытая пушкинистами деятельная любовь царя-страстотерпца к русскому гению…
Итак, в начале 1923 года Елена Александровна отправляет письмо Александру Фёдоровичу Онегину с предложением приобрести фамильные реликвии. В том же послании она упоминает и о величайшей редкости, что хранится у неё, – неведомом дневнике поэта. Не случайно парижский коллекционер поручает гостю из России привезти ему тот загадочный пушкинский дневник. И вот, сознавая всю значительность миссии, Модест Гофман немедленно отправляется в путь, в Константинополь. Не забудем, ведь Гофман покидая Париж, заручился поддержкой и советского полпреда Скобелева.
Важно, Скобелев не проявил безразличия, что ясно из его письма Модесту Гофману, заброшенному в Париж волею счастливых для него обстоятельств. Вот если бы сам Скобелев (без посредника!) смог, бросив всё, помчаться в Константинополь! Но, увы, для чиновника столь высокого ранга – в Париже его цепко держали государственные дела – то было делом несбыточным.
Передавая Гофману заманчивое предложение Елены Александровны, Скобелев оставляет ему пространную записку: «Меня, конечно, это очень заинтересовало, и я вступил с нею в переписку (она дала адрес… на английской почте в Константинополе). В ответ на моё письмо я получил от неё громадное письмо, которое меня не просто заинтересовало, а глубоко взволновало: уезжая в Южную Африку, она хотела продать в надёжные руки очень дёшево, фантастически дёшево, следующие реликвии Пушкина…»
И далее он перечисляет раритеты, даёт им личностную оценку: «1. Веер золотой черепахи стиля Louis XIV, премированный на парижской выставке, подаренный Пушкиным его жене. 2. Акварельный портрет Наталии Николаевы Пушкиной работы Брюллова. Этот портрет, изумительно красив, так красив, что от него невозможно оторваться, и когда смотришь на этот портрет, неизменно лучший, чем общеизвестный портрет Брюллова, понимаешь, почему Н.Н. Гончарова-Пушкина считалась такой несравненной красавицей с громадным шармом – шарма в ней было, может быть, даже больше, чем красоты, «романтической красоты». <…> 4. Личная гербовая печатка Пушкина со слоновой ручкой. За всё это внучка Пушкина спрашивала какие-то пустяки, что-то вроде пятидесяти тысяч бумажных французских франков… Но гораздо более на меня произвёл конец письма, в котором Е.А. Пушкина писала, «что касается до имеющегося неизданного дневника (1100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через сто лет после его смерти».







