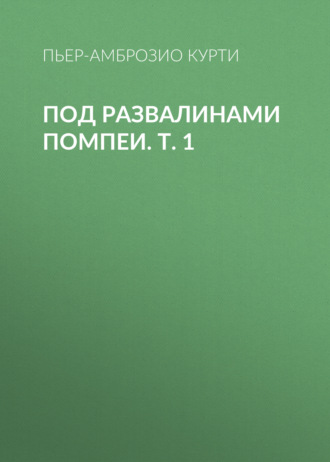
Пьер-Амброзио Курти
Под развалинами Помпеи. Т. 1
Вокруг была тишина, море не колыхалось; вдали едва заметными точками лежали небольшие понтийские острова, а между ними и берегом рыбачьи лодки, с которых закидывали в воду сети, нарушали однообразие морской поверхности; только одно судно виднелось шедшим на парусах, и Юлии казалось, что оно, хотя и находится еще далеко от берега, плывет по направлению к острову Пандатария.
Долго следила Юлия за этим единственным судном; но что оно могло принести ей, несчастной и забытой всеми? Она тряхнула своей красивой головой, как бы желая выгнать из нее безумную надежду, на мгновение озарившую ее мысль, подобно той, какую однажды она питала напрасно и которая оставила в ней одно лишь тяжелое разочарование. Постояв недолго на берегу моря, она, как бы в негодовании на самое себя, быстро повернулась, вошла в рощу и, пройдя медленно по ее тропинкам, возвратилась в свои комнаты. Миловидные деревенские девушки, видя ее идущей, останавливались для почтительного поклона, и когда она проходила мимо них, они грустно произносили ей вслед:
– Так красива и добра и так несчастна!
Ей дозволено было иметь только двух служанок. Одна из них, по имени Главция, была у нее комнатной девушкой, другая, по имени Сергия, готовила кушанья и исполняла черную работу.
Дочь Цезаря Августа при виде упомянутого судна не могла, однако, совершенно подавить в душе своей вернувшуюся к ней надежду и, возвратившись домой, поспешила к окну, обращенному к морю, и, облокотившись на подоконник, стала глядеть вдаль, утешая себя, что это делает она лишь из простого любопытства; она попыталась даже отойти от окна, но тотчас же вновь вернулась к нему и, отыскав глазами судно, стала следить за его приближением. Но в этой части моря было рассеяно столько островков, что трудно было предположить, чтобы судно это плыло именно к Пандатарии; да если бы это и было так, какое было ей до этого дело?
Солнце совершенно зашло за горизонт, вечерний сумрак одел собой море и острова; на небесном своде заблестели звезды. Яркие метеоры параболическими линиями падали в море по всем направлениям, и Юлия, любуясь их веселой игрой и как бы завидуя им, спрашивала себя: «Отчего лишь мне одной выпала на долю печаль?»
Потом, обратившись к стоявшей близ нее в ту минуту Главции, сказала ей:
– Главция, достань астрагалы и фритиллус; я хочу погадать, долго ли еще судьба будет мне враждебна.
Рабыня принесла ей fritillus[97], четыре астрагала, бронзовые игральные кубики, имевшие на одних из двух противоположных сторон цифры 1 и 6, на других 3 и 4, а остальные две противоположные стороны были без цифр. При бросании их самым лучшим сочетанием цифр, называвшимся venus, было то, когда каждый кубик показывал различную цифру, так что все четыре показывали 1, 3, 4 и 6; худшим же сочетанием, называвшимся canis, то есть собака, было, когда все кубики выходили с одной и той же цифрой.
Юлия положила в чашку четыре астрагала и, встряхнув ее несколько раз, выбросила кубики на стол.
– Собака, – прошептала бедная женщина таким плаксивым тоном, будто ей прочли смертный приговор, затем, отбросив от себя fritillis, она опустилась в кресло.
Преданная своей госпоже, Главция, подойдя к ней, старалась ободрить ее и отогнать от нее печальные мысли, указывая ей на многие примеры, доказывавшие, что на этого рода гадание нельзя полагаться, так как оно часто не сбывается.
– У моей матери, например, вышла venus, – сказала Главция, – когда меня похитили у нее.
В этих разговорах прошло несколько времени, когда со стороны порта послышались крики береговых сторожей (excubitores), приказывавших какому-то судну не подплывать близко к берегу. В ответ на это приказание раздался чей-то громкий голос, но Юлия и Главция не разобрали слов, им произнесенных, затем послышались многие голоса и приказания причаливать к берегу, шум корабельных цепей и падение якоря в воду.
– Это, наверно, то судно, – проговорила с сильным волнением Юлия, – которое мы только что видели; чье бы оно было? Мое сердце не предвещает мне ничего хорошего.
– Не отчаивайся, моя госпожа: нет никакой причины ждать тебе ухудшения своей участи.
– Ты не знаешь, Главция, ты не знаешь, как деятелен гнев Ливии Августы. Она ведь мне и мачеха, и теща; подумай об этом. Но слушай… голоса и шаги, кажется, приближаются к нашему дому.
Юлия побледнела, и сердце ее забилось так сильно, как будто хотело выскочить из груди. Она начала различать голоса; некоторые из них казались ей знакомыми; она прислушивалась, чтобы лучше их распознать. Главция разделяла с ней страх ожидания.
– Фабий!.. Фабий Максим… это его голос, его! – воскликнула вдруг Юлия и в сильном волнении побежала отворить дверь своей комнаты.
Полная душевного страдания, бросилась несчастная пленница в объятия Фабия Максима, бывшего другом всего ее семейства.
– Ободрись, о Юлия, здесь мы, твои верные друзья.
Эти слова, действительно, ободрили Юлию; оглянувшись вокруг себя и увидев Овидия, она быстро протянула ему правую руку и воскликнула с радостью:
– О, какое утешение послали мне сегодня боги!
Взволнованный до слез, Овидий не мог произнести ни слова. Фабий Максим, обратившись к центуриону, по-видимому управлявшему островом и приведшему новоприбывших к Юлии, отпустил его повелительным жестом:
– Иди, центурион, и оставь нас; позднее мы попросим у тебя помещения, где мы могли бы провести ночь; позаботься об этом.
Вслед за центурионом вышла из комнаты и Главция.
Успокоившись от волнения, причиненного неожиданным свиданием, Юлия, Фабий и Овидий о многом переговорили между собой, причем последние сообщили Юлии о причине своего прибытия к ней и о том, что в Реджии, куда она будет перевезена, ее ожидает более удобная и свободная жизнь; но так как Юлии казалось невероятным, чтобы ненависть, какую питала к ней до сих пор Ливия, сменилась на благосклонность, то она тут же высказала подозрение, что, переселяя ее в Реджию, Ливия имеет тайную цель держать ее подальше от Рима и в вечной ссылке. Возражая ей, Фабий и Овидий стали успокаивать ее уверением, что и впредь они будут ходатайствовать о ней пред Августом.
Но подобные уверения не могли успокоить Юлию и возбудить в ней надежды. Если после стольких лет все советы и просьбы о помиловании, с какими обращались к Августу как Фабий и Овидий, так и прочие влиятельные и близкие к императору лица, имели в результате лишь перемену места ссылки, сделавшейся еще более отдаленной, можно ли было ей ожидать чего-либо лучшего впереди? Тогда-то оба друга нашли нужным открыть ей кое-что о предприятии, задуманном Луцием Авдазием; это известие, думали они, могло возбудить в неутешной душе вновь надежду на близкое освобождение.
– О Юлия, – говорил ей поэт, – у тебя друзей гораздо более, чем ты думаешь; сам народ при всяком удобном случае требует твоего освобождения, и находятся такие, которые готовы пожертвовать своей жизнью за тебя. Они прибыли с нами; ты увидишь их завтра.
– А мои дети? – спросила тогда Юлия.
– Они также любезны нам, и мы заботимся о них, – отвечал Фабий Максим.
– Твоя Юлия, – прибавил поэт, – растет подобно своей матери – красавицей, образованной и ласковой – и постоянно думает о тебе. Агриппа недавно прислал в Рим своего верного слугу разузнать, что с тобой, и просить друзей о твоем освобождении, которое дороже ему своей собственной свободы.
Слезы любви заблестели на глазах несчастной матери. В эту минуту пришел центурион пригласить Фабия Максима и Публия Овидия отдохнуть в приготовленных для них комнатах.
Главция всю ночь укладывала вещи своей госпожи, а Юлия бодрствовала под впечатлением неожиданного для нее свидания с лучшими друзьями; ее то радовала надежда, то мучил неопределенный страх. Но облегчение строгости надзора, присылка к ней Фабия и Овидия, память о ней народа и его не угасшие симпатии к ней – все это подействовало на нее в конце концов успокоительным образом, и она заснула.
На другой день, вне порта Пандатарии, стояло на якоре большое судно с двойными скамьями, то есть с двойным рядом весел, совершенно готовое к выходу в море. Эта была либурника, называемая проще либурна, военное судно, подобное тем, на каких плавали иллирийские пираты. Как корма, так и носовая часть его были заостренные; оно приводилось в движение как веслами, так и парусом, который укреплялся на мачте, стоявшей как раз посередине судна и имел форму левантийского паруса вместо обыкновенной четырехугольной.
Еще накануне, только что вступив на берег Пандатарии, Фабий Максим сообщил центуриону, как начальнику острова, декрет императора, предписывавший всем властям исполнять требования Фабия, просил его немедленно послать кого-нибудь из своих подчиненных на морскую военную станцию, находившуюся в соседнем Мизене – эта станция, после равеннской, была самой важной в Римской империи[98],– с приказом к ее начальнику прислать на остров Пандатария большую либурну, совершенно готовую к отплытию в Реджию.
Встав рано утром, Фабий Максим и Публий Овидий увидели либурну, стоявшую при входе в порт, так как в самом порту, тесном самому по себе и, кроме того, заставленном прочими барками, либурна не могла бы свободно маневрировать. Они тотчас же отправились на нее и лично освидетельствовали, готова ли она к немедленному отплытию. После этого Главция прибыла на либурну с ящиками и сундуками, содержавшими в себе платья и прочие вещи госпожи и ее собственные.
В это время сошли на берег Мунаций Фауст и Деций Силан вместе с Луцием Авдазием и Азинием Эпикадом, изъявившим желание сопутствовать им, так как он мог помочь им поскорее отыскать пирата Тимена и мог быть полезен в том смелом и рискованном предприятии, на которое они отправлялись.
Экипаж знакомого нам судна Тикэ также был готов: он убрал якорь и цепи и ждал лишь приказания своего хозяина выйти из своего порта в открытое море.
Немного спустя появилась и Юлия, прекрасная, подобно обитательнице Олимпа. Фабий Максим представил ей тут помпейского навклера, Деция Силана, Луция Авдазия и Эпикада.
– Эти люди за тебя, – шепнул он ей.
– На жизнь и на смерть! – прибавил Авдазий.
Юлия, удивленная их смелостью, протянула им с благодарностью свою руку и проговорила:
– Да покровительствуют вам Кастор и Поллукс и Нептун в вашем далеком плавании.
– И да погибнут враги твои, – сказал тот же Авдазий.
Юлия пожелала, чтобы Мунаций Фауст отправлялся вперед со своим судном, и Мунаций поспешил сесть на него вместе с Децием Силаном, Авдазием и Эпикадом. Когда navis oneraria помпейского навклера вышла уже в открытое море, Юлия, ласково простившись с центурионом, бывшим внимательным к ней во время ее пребывания на Пандатарии, вошла в легкую барку с Фабием Максимом, Овидием, Главцией и Сергией; матросы взмахнули веслами, и маленькая барка быстро доплыла до военной либурны, весь экипаж которой с должным уважением приветствовал Юлию.
Тогда navarchus, капитан либурны, дал приказ отправляться в путь, a pausarius подал знак симфониакам – музыкантам, указывавшим такт весельникам, – играть целеузму, морской мотив, который раздался с особенным оживлением, так как музыканты знали, что на либурне находится дочь императора Августа.
Быстрая либурна в несколько ударов весел обогнала Тикэ, и Юлия, Фабий Максим и Овидий послали рукой последний привет своим друзьям, плывшим на коммерческом судне помпейского навклера.
Глава шестнадцатая
Встреча на море
Из рассказа Неволей Тикэ о своей жизни читатель познакомился несколько с известным, страшным пиратом на греческих морях, Тименом, похитившим из родительского дома Неволею Тикэ вместе с ее подругой Фебе. Теперь я попрошу читателя сопутствовать мне в Адрамиту, где жил этот пират.
В то время Адрамита была большим поселением в той части Эолийской Ионии, которую принимают за древнюю Мизию, и стояла у берега одного из заливов Эгейского моря. В этом укрепленном местопребывании своем Тимен хранил свое имущество и все свои сокровища и отсюда отправлялся в свои опасные экспедиции и на рынки для продажи своей добычи.
Неволея Тикэ в своем рассказе многое недосказала о Тимене, и для нас осталось, между прочим, необъясненным, каким образом он, столь заинтересовавшийся, по-видимому, одной из двух девушек, похищенных им из сада Тимогена, а именно – красавицей Фебе, мог без всякой причины с ее стороны оттолкнуть ее от себя и быть настолько жестоким к ней, чтобы продать ее в рабство.
Тимен действительно любил ее и не притворялся, выказывая ей свою симпатию; до самой последней минуты он был к ней неравнодушен. Разлучиться же с ней принудило его следующее: в один из тех дней, когда он находился у себя дома, в Адрамите, он имел случай убедиться в безграничной и страстной любви к нему молодой девушки и вместе с тем в сильном влиянии ее на его собственное сердце. Разобрав свое чувство к ней, он увидел, что и он любит ее и что, пользуясь его любовью к себе, Фебе может, пожалуй, заставить его отказаться от того образа жизни, к которому он привык, и довольствоваться жизнью семейной, спокойной и тихой, какой ищут, обыкновенно, взаимно любящие сердца. Но его натура возмущалась против этого: ему казалось слабостью, пороком – поддаваться женскому влиянию, стыдом – мечтать о жизни не воинственной и вялой; вследствие этого он решился разом покончить с зародившимся в его душе чувством и удалить от себя, как он выражался, постыдные мысли. Отказаться от моря, от жизни, полной деятельности и сильных ощущений, он не мог: это было для него равносильно осуждению на смерть. Что же делать в таком случае с Фебе? Отвезти ее вместе с Неволеей в Милет, откуда он их похитил, было его первой мыслью; но в эту минуту он не доверял самому себе; он боялся, что если он не перестанет любить Фебе, то, зная ее местопребывание, он может пожелать возвратить ее к себе, а поэтому он решился продать ее в рабство. Тогда пришлось ему поневоле отказаться от нее навсегда, так как ему было бы неизвестно, где она находится, и таким образом он обеспечил бы себе победу над тем, что называл он слабостью и малодушием.
Он недолго откладывал исполнение своего решения и постарался устроить разлуку с Фебе таким образом, что избавил себя от опасности сдаться на ее мольбы, слезы и отчаяние.
Однажды он возвратился с обыкновенного своего набега, привезя с собой много юношей и девушек, похищенных им в разных местах греческого архипелага; но богатая добыча не только не успокоила его, а, казалось, еще более укрепила в нем намерение расстаться с Фебе и заставила его поторопиться продать ее.
Тогда-то он и разлучил Фебе с Неволеей Тикэ под предлогом иметь первую постоянно при себе, и нам уже известно, как тяжела была для них эта разлука.
На следующее утро, не сказав никому ни слова и не взяв никого с собой, Тимен неожиданно исчез из Адрамиты, и в тот же день бедная влюбленная девушка была продана какому-то римскому купцу приехавшему в дом пирата с собственноручной его запиской, который и увез ее в Рим.
Но пират сильно ошибся в расчете.
После отъезда Фебе, потерянной навсегда для его сердца, он старался первое время не думать о ней, но старался напрасно: ее красивый образ представлялся его глазам еще более красивым, чем прежде; она являлась ему рыдающей или глядящей на него таким грустным взором, что перенести его было тяжелее всякого громкого упрека; ему слышались ее сладкие речи, он чувствовал ее нежные ласки и в такие минуты, как помешанный, хватался он за голову, рвал свои волосы, терзал ногтями грудь и проклинал богов и самого себя.
Желание видеть Фебе и обладать ею усиливалось в нем с каждым днем, и ни днем ни ночью не имел он покоя. Он поспешил на тот рынок, где встретил впервые римского купца, которому была предана Фебе; он готов был выкупить ее у него за какую бы то ни было сумму, но увы, проклятие! Купец уж несколько дней как был на пути в Италию. Всякому, кто видел его и кто говорил с ним в то время, он казался сумасшедшим; так думали о нем и его товарищи, когда однажды он вздумал отправиться в море при страшном волнении и урагане. Он и сам казался ураганом: домашние страшились взрыва его гнева и не осмеливались расспрашивать его; сам же он никому не высказывал причины происшедшей в нем перемены, не желая увеличивать своих страданий бесполезными сожалениями посторонних.
Много дней прошло, прежде нежели он мог сколько-нибудь успокоиться. Экзальтация и резкие порывы сменились мрачным спокойствием. Он или молчал, или говорил короткими фразами; всех девушек, бывших у него в Адрамите, он сбыл с рук в тот самый день, когда была продана Эпикаду Неволея. В доме его сделалось тихо и пустынно; фессалийская ворожея, Филезия, понурила голову и предвещала недоброе. Она отгадала причину происшедшей в Тимене перемены, и так как прежде она предсказывала Фебе печальную будущность, то и теперь шептала ближним Тимена, что и его судьба будет одинакова с судьбой несчастной девушки.
– Это две звезды, – говорила она, – которые быстро пробегут по своей орбите; да, они соединятся друг с другом, но для того лишь, чтобы потухнуть вместе.
Затем, приложив таинственно палец к губам, как бы требуя, чтобы сказанное ею сохранялось в тайне, она уверяла, что на этот раз ее предсказание наверное сбудется, прибавляя, что вместе с этими звездами потухнет и меньшая звезда, как она называла самое себя. Встречаясь же с пиратом, Филезия всякий раз смотрела на него с глубоким сожалением, выражая мимикой свою искреннюю скорбь.
Но одиночество, которому он отдался, не в состоянии было, разумеется, излечить его от охватившей его страсти, которая продолжала терзать его сердце, усиливаясь по-прежнему ежедневно. Он думал о каком-то безумном и отчаянном предприятии, которое могло бы удовлетворить его желание, когда – как ему казалось – сами боги, сжалившись над ним, послали ему встречу, о которой мне приходится теперь рассказывать читателю.
Был май месяц. Тимен, находившийся, по обыкновению, в возбуждении, не будучи в состоянии заснуть, разбудил ночью своих людей и приказал им немедленно приготовить его быструю эмиолию. Когда судно было готово, он снес в него пищи на несколько дней, лучшие свои драгоценности и оружие, какое, по его мнению, было необходимо в задуманном им предприятии; затем, выбрав самых смелых и преданных ему матросов, он отчалил с ними от берега, не взяв с собой другого судна, что делал при обыкновенных своих экспедициях.
Куда намеревался он плыть? Какое предприятие задумал он? Никто не знал об этом. Сосредоточенный, молчаливый и угрюмый, он не допускал никаких расспросов.
Погода была далеко не благоприятна для плавания, но он об этом не заботился: он отдал приказ и все должны были беспрекословно повиноваться.
Одна лишь Филезия осмелилась было произнести несколько слов. Желая удержать его дома, она сказала ему:
– Смотри, море очень бурно.
– Как моя собственная душа, – отвечал он.
Когда его быстрое судно вышло в открытое море, он приказал направить руль к Гераклейскому проливу, обогнул Элею и Куму, прошел между Эфесом и Самосом и, когда наступила следующая ночь, вошел в воды Карианского моря, игравшего большими волнами. Люди на судне были бодры, так как во все это время дул попутный ветер и судно шло на одних парусах без всякой помощи весел. В Карианском море, опасаясь противного ветра, Тимен приказал спустить паруса, и судно поплыло по движению волн. Весь экипаж, по приказанию пирата, был под палубой, и один он бодрствовал, расхаживаясь скорыми шагами по судну и, казалось, радуясь непогоде, вздымавшей море, рев волн которого, будто разделявший его чувства, поддерживал в нем бодрость духа. Но под утро ветер начал мало-помалу стихать, волны улеглись и Тимен увидел звезду Диоскуров[99], блестевшую на верхушке мачты своей эмиолии.
Когда взошла заря, Тимен заметил, что сильный ветер и большие волны в течение ночи быстро подгоняли судно и что оно много прошло за это время. Первые лучи солнца согнали с морской поверхности туманный пар и дали возможность пирату видеть прояснившийся горизонт востока.
Вдоль дальнего морского берега, по левую сторону, белели дома, в которых Тимен узнал богатый Милет, и он стал смотреть на него, глубоко задумавшись. Он оставил свою Адрамиту с единственной целью отыскать где бы то ни было девушку, овладевшую его сердцем. Судьба привела его в это море, и он, не лишенный предрассудков и суеверий, полагал, что она сделала это недаром; в нем явилось страстное желание хоть посмотреть на те места, где выросла Фебе: лишившись счастья овладеть ею, он хотел облегчить свою тоскующую душу видом ее родины. Этот жестокий и гордый человек был побежден своей страстью: привыкший подчинять своей воле волю других людей, он чувствовал себя в настоящую минуту бессильным, и, не будучи в состоянии заставить молчать свое сердце, он прибегал ко всем средствам, чтобы удовлетворить его, хотя бы и иллюзией. С этой целью он желал пристать к милетскому берегу и проникнуть, подобно первому разу, во время самого похищения, в сад Тимагена по скалистым береговым уступам, чтобы там оживить в своей душе невозвратное прошлое. Еще издали, смотря за Милет, ему казалось, что он находится среди роз и лавров, росших в саду Тимагена со стороны морского берега, что он видит перед собой двух красивых девушек, прижавшихся одна к другой и ждавших со смущением его приближения; он вновь перечувствовал сладкое волнение той минуты, когда явился перед ними; затем припомнил тоску похищенных девушек на его корабле, их пребывание у него в доме, любовь Фебе к нему, ее речи, ее взоры, и, по мере того, как в его уме проходили все мелочи этого эпизода его жизни, они отражались и на его физиономии: то лоб его выравнивался и он улыбался, то вновь хмурился и конвульсивно сжимал свои кулаки и становился таким страшным, что матросы боялись взглянуть на него.
Но вдруг его глаза, зоркие, подобно орлиным, неподвижно остановились на скалистом берегу Тимогенова сада, и ему показалось, что какая-то черная точка отделилась от берега. Он стал смотреть пристальнее и скоро различил в этой точке судно и заметил его направление. Отойдя от берега, судно повернуло направо и шло навстречу его эмиолии. Кому оно могло принадлежать? Какое право оно имело плавать на этих водах?
Пират почувствовал нечто вроде ревности и, вызвав наверх всех своих людей, приказал грести назад, но медленно: он не желал терять из вида замеченного им судна. Этим маневром он надеялся также не возбудить подозрений в навклере того судна и таким образом вернее осуществить задуманный им план. На высоте Эфеса он еще более замедлил ход своей эмиолии, полагая, что чужое судно пристанет тут к берегу; но так как оно, пройдя мимо эфесского порта, продолжало свой путь далее, по прежнему направлению, то Тимен, остановив работу весельников, приказал поднять паруса. Легкий ветерок едва вздувал парус, и эмиолия продвигалась вперед медленно; вслед за ним плыло незнакомое судно, навклер которого, как бы не довольствуясь медленностью хода, несмотря на поднятый парус, приказал еще грести, очевидно, желая нагнать барку пирата, но подозревая, что встреча с ней может быть для него очень опасной.
Тимен, наблюдая эти маневры, почувствовал в душе желание битвы и с радостью поджидал приближения неприятеля: битва могла бы хоть на время отвлечь его от тяжелых дум.
Матросы не отрывали глаз от своего капитана и следили за каждым его движением, за малейшим изменением в выражении его лица.
Наконец они увидели его улыбающимся. Его улыбка в подобных случаях была обыкновенным предвестником битвы.
Между тем наступил вечер, и оба судна прошли уже Колофон и находились приблизительно на полдороге между материком и островом Лесбос, когда Тимен решительным голосом приказал повернуть эмиолию назад. Младшие из матросов, убрав паруса, как белки вскарабкались на самую верхушку мачты и укрепили на ней красное знамя. Около двадцати человек, хорошо вооруженных, приготовились к нападению, гребцы сильнее ударили веслами, а рулевой направил эмиолию на купеческое судно, которое, ничего не подозревая, со свернутыми парусами и без помощи весел, спокойно продвигалось вперед.
Но при приближении эмиолии на купеческом судне раздался сильный крик, свидетельствовавший, что на нем догадались, что приходится иметь дело с пиратами. Поздно заметив опасность, они не упали, однако, духом; не желая отдаваться в руки пиратам, что означало быть зарезанными или проданными в рабство, они бросились к оружию и приготовились дорого заплатить за свою жизнь и за свою свободу.
Они стояли в ожидании.
Оба судна были уже одно возле другого; находившиеся на них, сохраняя молчание, потрясали мечами и кинжалами: каждый из них с нетерпением ожидал момента броситься на врага.
– На абордаж! – крикнул Тимен.
Исполняя этот приказ, рулевой проманеврировал эмиолией таким образом, что поставил ее бок о бок с купеческим судном.
Как только был выполнен этот маневр, пират приказал весельникам сложить в судно весла, крикнул экипажу:
– Вперед!
Сжимая в руке длинный кинжал, Тимен первым вскочил на купеческое судно; за ним, как дикие звери, жаждущие крови, бросились его товарищи, между тем как весельники с помощью канатов и крючьев стали прикреплять одно судно к другому.
В то самое мгновение, когда обе противные стороны готовы были начать кровопролитную борьбу, Тимен прокричал звонким голосом:
– Остановитесь! – и, отступив шаг назад, он проговорил, протягивая свою правую руку стоявшему перед ним и ожидавшему его нападения навклеру: – Мунаций Фауст!
Товарищи пирата тотчас же опустили оружие, а Мунаций Фауст, узнав его, подошел к нему и, пожимая ему руку, сказал спокойным голосом:
– Тимен!
Вслед за ним подошел к пирату и Эпикад, знавший давно страшного разбойника греческих морей.
– Друзья, – заметил при этом Луций Авдазий, – только что приготовлявшиеся резать друг друга!
По примеру своих капитанов и экипажи обоих судов тотчас же подружились между собой.
– Странно, Тимен, что ты нас предупредил: ведь мы отправлялись разыскивать тебя, – начал помпейский навклер. – Действительно, боги покровительствуют твоему предприятию, Луций Авдазий. Прикажи своим людям, Тимен, возвратиться на свое судно, а ты останься с нами; мы желаем поговорить с тобой об очень серьезном деле.
Тимен исполнил его просьбу и, вновь оборачиваясь к нему, спросил:
– Так мы отправимся теперь в Адрамиту?
– Да, я думаю, что это необходимо, – отвечал помпейский навклер.
В то время как Тикэ и эмиолия продолжали рядом свой путь, Тимен, Мунаций Фауст, Деций Силан и Луций Авдазий, сидя в знакомой уже читателю диаэте, рассуждали о предприятии, заставившем Силана, Авдазия и Мунация отправиться в далекий путь, а именно в Реджио, для похищения дочери Августа.
Пират слушал, не выражая пока ни согласия, ни отказа: казалось, он измерял своим умом важность предприятия, в котором ему предлагали участвовать, и последствия своего участия; быть может, он изыскивал в эту минуту лучшие средства к достижению цели или, быть может, думал о том, как бы соединить с этим предприятием и то, об осуществлении чего он мечтал день и ночь.
– Ты сперва отправишься вместе с нами в Рим, – сказал ему Авдазий, не принимая его молчания за отказ, – и там, вместе с нашими друзьями, мы обстоятельно обсудим все частности задуманного нами дела. Сколькими кораблями ты можешь располагать?
– Четырьмя, – отвечал Тимен, прерывая свое молчание. – Кроме этой есть у меня еще одна эмиолия и две акации[100], еще более быстрые и легкие; в случае же нужды могу иметь несколько судов моих друзей.
Таким ответом он, очевидно, выражал свое согласие участвовать в рискованном деле.
– Нет, я думаю и твоих четырех будет достаточно. Мы только что видели твоих людей, и они вселяют нам надежду на успех.
Мы не станем следить за дальнейшим разговором наших заговорщиков, обсуждавших частности своего предприятия, говоривших о провизии, оружии, о количестве людей и т. д.; заметим лишь, что Тимен показывал во всем такой ум и такую дальновидность, что не раз приводил в удивление Деция Силана и Луция Авдазия. Они представляли его себе обыкновенным разбойником, грубым и невежественным, а в действительности нашли в нем человека с изящными манерами, говорившего прекрасным языком и, что особенно их удивляло, не лишенного великодушия и благородства. Когда Луций Авдазий рассказывал о причине, приведшей его в дом адрамитского пирата, об обещании, данном им, Авдазием, младшей Юлии освободить ее мать, о преследованиях Ливии Августы, Тимен слушал его с глубоким вниманием и, очевидно, интересовался судьбой лиц, преследуемых императрицей, так что обращенный к нему вопрос, на каких условиях мог бы он содействовать освобождению старшей Юлии, едва не вывел его из себя.
– Но что это за человек? – спросил после этого самого себя еще более удивленный римский заговорщик.



