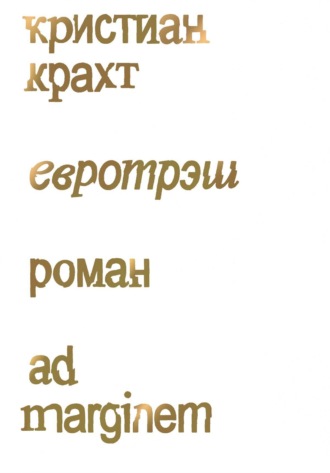
Кристиан Крахт
Евротрэш
Там, в Кампене на Зильте, через несколько улиц от нас, издатель Петер Зуркамп продал свой дом с такой же соломенной крышей Акселю Шпрингеру, чтобы на вырученные деньги купить права на немецкий перевод «В поисках утраченного времени» Пруста, – отличная сделка, на мой сегодняшний взгляд. В доме Шпрингера я тоже нередко живал под самой крышей и по ночам мочился там в раковину, укрепленную на стене, потому что мне неохота было идти по коридору в туалет; я проделывал это так часто, что раковина начала вонять, и я бутылками лил туда жидкое мыло, моющее средство и мужские духи, чтобы заглушить вонь. Я боялся, что Аксель Шпрингер вышвырнет отца из дому, если выяснится, что я всё время писаю в раковину. Дело в том, что отец, когда бывал на Зильте, всегда жил у него, поскольку ненавидел тестя с тещей. Они как были нацисты, так нацистами и остались, говорил он, и отказывался с ними даже здороваться; вот почему на Зильте он всегда останавливался с нами у Акселя Шпрингера и никогда – у моего деда дальше вниз по той же улице в сторону дюны Уве, примерно там, где Геринг в свое время потерял кортик в колоснике. Ибо всё, что не допускается в сознание, возвращается как судьба.
И вот пока гости, пришедшие к матери на восьмидесятый день рождения, искали выход из Винтертурского психиатрического стационара, когда саму ее уже отвели обратно в крошечную палату, в ее, так сказать, камеру, с кроватью, стулом и окном из непробиваемого стекла, на нее нашло просветление, момент кристальной ясности сознания, вероятно, под влиянием встречи в фойе психиатрической клиники с сестрами и братьями, с которыми она не разговаривала двадцать лет, и она рассказала мне, присевшему на краешек кровати, взяв ее руки в свои, о торговце велосипедами в Итцехо, который ее насиловал.
Ровным голосом, робкими, тихими словами ребенка, она рассказала мне, что произошло с ней в одиннадцать лет в Северной Германии, в Итцехо, что ее насиловали снова и снова, на что я расплакался и, плача, обнял ее со словами, что теперь она в безопасности, тут, в Винтертуре, в закрытом психиатрическом стационаре, ей ничего не грозит, не нужно бояться, и что со мной случилось то же самое, тоже в одиннадцать лет, только, соответственно, в 1979 году, в канадском интернате. Она всегда это знала и верила мне, откликнулась она, еще тогда, просто она не могла об этом говорить, совсем не могла, слишком больно ей было, что над ней самой надругались, и слишком стыдно, что не удалось уберечь своего ребенка от той же участи ровно тридцать лет спустя.
Боже мой, наша жизнь, какая же это подлая, страшная, жалкая пьеска, думал я, по-прежнему таращась на потолок в гостиничном номере, и видел, что это и в самом деле вечное возвращение, невозможность найти начало во времени, aeternitas a parte ante[12], как мне пытался однажды объяснить один клирик во Флоренции. А вот если бы круговорот истории удалось прервать, тогда можно было бы прямо воздействовать не только на будущее, но и на прошлое.
Теперь я видел перед собой уже не мать, а Эльзи фон Эрли. Это была моя няня, из старинного крестьянского рода в Бернских Альпах; у нее были серебристо-седые волосы, стянутые в пучок на затылке, маленькие брильянтовые сережки-гвоздики в ушах, морщинки вокруг глаз и красивые веснушки на лице; для меня она стала первой женской противоположностью немецкой, строгой, холодной красоте моей матери.
Эльзи жила внизу за поворотом улицы, которая вела к Палас-отелю в Гштаде. Она мне пела, когда родители бывали в отъезде и я гостил у нее в шале, мне разрешалось спать в ее кровати, и там я по ночам крутил ручки светло-коричневого приемника и попадал на радиостанции «Минск», «Беромюнстер» и «РИАС Берлин». А когда после двух часов ночи все программы заканчивались, я слушал под боком у Эльзи монотонные, бесконечные ряды цифр длинноволнового вещания. Пять, семь, восемь, один, пять, два, два, пять, девять, пять, загадочные, пугающие ряды цифр, зашифрованные послания, по ночам передававшиеся из Советской зоны к нам в Швейцарию или бог его знает куда, и я испытывал смутный, но от этого не менее мучительный страх перед этими голосами в радиоприемнике.
Эльзи говорила, что бояться нечего, совсем-совсем, напевала: В саду алая роза, в лесу ландыш цветет, как обрушатся грозы, ветер цвет разметет, держала меня за руку в ночи и обнимала, засыпая; на окнах у нее висели вышитые льняные занавески. Пол в спальне был из некрашеных досок, в палисаднике цвели белые розы у деревянного забора, а сама она пахла чистотой, как свежевыстиранная простыня, которую сушил теплый альпийский фён, задувавший к нам через долину с ледника Дьяблере.
На этом месте я заснул и долго спал без сновидений; а проснувшись утром, сразу вспомнил про бумажный пакет со свитером, купленным накануне у коммунаров на Банхофштрассе. Я встал, зашел в ванную и почистил зубы. Потом сел на край кровати, вытащил из пакета свитер и зарылся в него лицом. Он пах почвенно: сеном, мокрой шерстью, псиной, свежими стружками и сухой листвой. Он пах так и на ощупь был таким, что я натянул его на голое тело и обхватил себя руками перед зеркалом в гостиничном номере, как делал, бывало, перед зеркалами моего детства.
II
Я всегда жил в мечтах, в призраках языка. Никогда я не мог понять, почему, уехав в одиннадцать лет из Швейцарии в канадский интернат, я с тех пор вынужден был без конца мыкаться по свету, волоча за собой свое имущество в пакетах и чемоданах или оставляя его на хранение то там, то здесь. Компакт-диски, которые не послушаешь, потому что плееров под них уже нет, пластинки, которые не поставишь, потому что проигрывателей уже нет. Книги, изъеденные термитами или заплесневевшие от сырости, вышедшая из моды, пахнущая затхлостью одежда.
Что гнало меня – добровольно, в силу какой-то болезненной потребности – в Бангкок, Флоренцию, Буэнос-Айрес, в Калифорнию, на Шри-Ланку, в Кению, Индию и Киото, почему я застревал на годы то там, то здесь, что заставляло меня снимать и покупать там квартиры и дома, почему я вырастил ребенка, помнившего, что когда-то понимал суахили, понимал итальянский, понимал хинди, понимал французский, понимал швейцарский немецкий, понимал испанский – и не просто испанский, а кастильское наречие Аргентины, мягкий, изнеженный испанский со множеством шипящих. Почему? У меня не было ответа на этот вопрос.
Ребенок, не просто любивший поговорить по-итальянски с русским акцентом, на саксонском диалекте с индийским акцентом, по-французски с шотландским акцентом, но обожавший и почти неуловимые сдвиги в звучании языка – литературный немецкий с базельским акцентом, гласский диалект с пeнджабским акцентом, техасский диалект с тосканским акцентом, как будто в этих разветвлениях выговора, в этих минимальных изменениях языковых молекул можно было выследить и поймать что-то, позволяющее различить звуки истинные и выдуманные, классифицировать их как оригиналы и копии.
Сам язык, освобождение и в то же время полное подчинение себе спастического языка, секрет, скрытый в пра-вильной последовательности звуков – вот в чем было дело. Но в конечном счете дело было всегда в немецком. Это всегда был немецкий язык. Это всегда была выжженная земля, страдание самой израненной земли, война, пылающий город и выгоревшие огороды вокруг, это всегда было зачищенное огнеметами гетто, это всегда были приталенные светло-серые мундиры, красивые морщинки в уголках рта у потягивающих коктейль со льдом белокурых офицеров. Это всегда были темно-каштановые девичьи волосы, заколотые наверху слева, занавеской свисающие на лицо и тихонько отодвигаемые рукой в сторону, это всегда была задутая свеча в Амстердаме.
Я жил прошлым, последними двадцатью пятью, тридцатью пятью годами, и они тоже, казалось, не прошли, а остались вечным настоящим. Прошлое всегда было намного реальнее, полнокровнее, ощущалось сильнее, чем Сейчас. Я жил фильмами. И я жил в кинотеатрах, спал в кинотеатрах. А кинотеатры закрывались или перемещались в торговые центры на окраинах. Там, где раньше были кинотеатры, открывались бутики, торговавшие пальто, сумками и туфлями, никому не нужными, никому не нравившимися, кроме моей матери: например, одежда Лоро Пиана, клетчатые, подбитые ватой пиджаки Феррагамо или туфли фирмы Тодс.
Товары в невскрытой упаковке, свитера, кофты, покрывала, брюки со стрелками, которые мать накупала в этих бутиках, складывались в стопки, убирались в шкафы и, так сказать, архивировались; они лежали, никогда больше не удостоенные взгляда, рядом с десятками гермесовских сумочек и сотнями – кроме шуток – ни разу не надеванных туфель Феррагамо. Меха, соболя, чернобурки и прочее подобное, что не украла сиделка, были распределены по пяти шубохранилищам в Цюрихе, поскольку носить натуральные меха стало теперь неприлично, а просто выбросить их было невозможно – вообще ничего выбросить было невозможно, поскольку у всего была история.
Даже эта так и не распакованная одежда, купленная из болезненной потребности, была частью истории, частью патологической зависимости, возникшей из опыта войны и послевоенных лет. Казалось, история сама материализовывала собственные фетиши, исчезавшие затем в темных глубинах материных шкафов. Они превращались в магические предметы, смысл которых был навеки утрачен.
Что видела мать в раннем детстве, в последние годы войны? Как вешали на фонарных столбах дезертиров с картонной табличкой на шее? Как свисали фрагменты тел из разбомбленных квартир, открытых взгляду, словно кукольные домики без передней стены? Видела она эти обрушенные стены, эти гигантские кукольные домики и раздавленные, облепленные мухами и червями конечности, оторванные взрывной волной, расплавленные трупы и разбросанные куски человеческой плоти, и тянущиеся на запад потоки беженцев, расстреливаемые из бортового пулемета с низко летящих истребителей, горящие амбары, горящие пшеничные поля, горящие церкви? Что пришлось ей увидеть собственными глазами в смятении и разоре своего детства?
И почему отец всегда покупал дома с надеждой войти в общество, которое иначе никогда бы его не приняло? Он уже десять лет как умер, мой отец. Квартира на Аппер-Брук-Стрит в лондонском квартале Мэйфэр. Шале Ага-хана в Гштаде. Вилла в Кап-Ферра на скале между домом Сомерсета Моэма и поместьем бельгийского короля. Дом в Кампене на Зильте. Дом на Си-Айленде в Джорджии. И, наконец, замок в Морже на Женевском озере, где он и умер.
Я всегда с удовольствием вспоминал этот дом, робкую копию ротшильдовского замка Преньи. Перед глазами у меня вставало тусклое барокко ван Дейка в холле, которое в какой-то момент между двумя моими приездами исчезло со стены: наверное, было вырезано, скатано в рулон и отправлено на Сотбис. Между искусством и деньгами всегда была самая прямая связь, никогда не возникало ни малейшего сомнения, что они составляют единое и неразрывное целое.
Я видел обитые золотистым шелком диваны в большой гостиной, и на одном из них отца, присевшего на краешек в английском светло-сером фланелевом костюме, узкая туфля на узкой ноге, видел его хитрые, светло-льдистые глаза. Взгляд его был устремлен далеко за пределы парка, к Женевскому озеру и Эвиану на противоположном берегу, к французским Альпам, мирно рдеющим в лучах заходящего солнца. Я видел его гардеробную от Гермес, до самого потолка обитую светло-коричневой и оранжевой кожей. В стены были врезаны сотни тонких ящичков из тикового дерева, по одному на каждую рубашку Harvie & Hudson. А еще две ранние, экспрессионистские, картины Лионеля Фейнингера, одна называлась «Иезуиты», а другая «Читающий газету», над письменным столом в его отделанном красным деревом и тиком рабочем кабинете. Десятилетиями собиравшаяся коллекция тончайших китайских фарфоровых чайниц, сотни экземпляров, как у чатвиновского Каспара Утца, терзаемого неизлечимой страстью к фарфору. Почему, почему это всё?
С тех пор как во мне забрезжило понимание, сколько всё это стоит, я знал, что никогда не смогу так жить, и более того, что мои детство и юность были насквозь пропитаны выпендрежем, натужным шиком, бахвальством и унижением, мертвым золотом.
Страх отца перед провинциальностью, перед собственным происхождением из низов, пронизывал всё, как радиация, даже теперь, после его смерти. Его отец был таксистом в гамбургской Альтоне – со всеми вытекающими. Вечернее шатание по кабакам, куда малютка-сын вынужден бы таскаться вместе с ним, отцовские пьяные тумаки, брутальность низов поствильгельмовской эры. Туда он не хотел вернуться ни за что, только не это, любой ценой.
В результате после войны он втерся в окружение Акселя Шпрингера. Он встречался с правильными людьми и носил правильные костюмы, хотя поначалу они шились из грубой, кусачей материи штор для затемнения. Отец производил впечатление элегантностью и беспринципностью. На черном рынке он добывал для Шпрингера, получившего от британцев лицензию на издание газеты, целые колонны грузовиков с бумагой. И стал подыматься по карьерной лестнице всё выше и выше, пока не стал правой рукой могущественного издателя.
Он попробовал жить в Англии, вклиниться сразу на самый верх, в сшитых по мерке костюмах от Davies & Son, того самого ателье на Сэвил-Роу, что обшивало Акселя Шпрингера. Он носил сшитые на заказ туфли John Lobb с небольшим каблуком, так как очень переживал по поводу своего роста, он был маленький и щуплый. Он ходил в Лондоне в правильные клубы, жил исключительно в районах Мэйфэр и Белгравия, он любил Англию, но своим там так и не стал. И хотя он выучил, что, обедая в Simpson's in the Strand, нужно совать нарезчику, подкатывающему к столику серебряную тележку с ростбифом, монеты в нагрудный карман белого фартука, от костюмов моего отца, сшитых у лучших английских портных, веяло душком немецкого рабочего класса, и, того хуже, повадками парвеню.
Он столького так и не понял, мой отец. Например, про снобизм наоборот и белгравийское кокни, the final vulgarity of the English upper class[13]. И сшитые по мерке рубашки, непременно с потертым воротничком и дырками. Они должны быть foxed[14], в пятнах, и только что не распадаться на волокна. И про замшевые полуботинки он тоже ничего не понял, так называемые chukka boots – носить их нужно было непременно в неприглядном виде, ободранными, в пятнах, как будто ты вчера весь день бегал по лужам, а потом забыл их почистить. Моему отцу не хватало самоиронии, он был не комильфо, он был просто «не тот», как сказано у Теккерея, и дело было не в деньгах, не во влиянии, нет, отец был просто не тот, оказалось, что недостаточно приехать из гамбургской Альтоны и пожелать заделаться англичанином.
Где-то в сельской Англии, в Суффолке, Сомерсете, что-то в этом роде, он тайком зачал сына с англичанкой. Иногда, вернувшись домой в Гштад после месячного или двухмесячного отсутствия, он рассказывал, что жил на простом крестьянском дворе, и об овцах у забора, яблонях, голубятне, простой пище и простой доброте сельских жителей. Я помню, я тогда подумал, что мы тут в Гштаде тоже живем в деревне. Наши соседи тоже все были крестьяне, коровы клали голову на забор под окном моей детской и каждое утро будили меня звоном своих колокольчиков, и мне даже приходилось, как я ни протестовал, пить на завтрак еще теплое парное молоко. Тут такая же точно сельская жизнь, как в Англии, думал я тогда, но, разумеется, ни разу не сказал ничего подобного вслух – я вообще никогда ни в чем не возражал отцу. Наши отношения состояли в сплошном утверждении его абсолютного господства. Невозможно было быть другого мнения, это было невозможно никогда, ни в каком возрасте, – ты привыкал к этому, соглашался со всем и получал за это деньги.
И наконец, когда он умер, моя мачеха – его последняя жена – прилетела на похороны из Женевы в Гамбург частным бортом Лирджет, держа на коленях сумку Биркин за тридцать пять тысяч евро, и в этой сумке от Гермес лежал его прах в полиэтиленовом пакете. Прах, который она потом бросила с баркаса в Эльбу у Финкенвердена, прах в полиэтиленовом пакете в грязную Эльбу.
У меня до сих пор стоит перед глазами покачивающийся баркас, быстро, стыдливо сунутая купюра в двести евро, чтобы пьяный капитан закрыл глаза на происходящее, полностью парализованная, онемевшая семья на верхней палубе, белесое гамбургское небо, полиэтиленовый пакет, медленно уходящий под воду за кормой, орущие, ныряющие, омерзительные чайки.
Мою мать не пригласили на прощание, завершившееся семейным ужином в гамбургской гостинице «Времена года». Сидели в отдельном зале, молча и при галстуках; молчание, гнетущее, но прямо предписанное мачехой, нарушалось только сонмом ливрейных официантов, объявлявших и описывавших череду рассчитанных на эффект блюд. Все эти громко и торжественно провозглашаемые шейки омара на гороховом суфле, стейки шатобриан и базиликовые сорбеты – удручающее, бездонное, непрошибаемое мещанство.
После ужина я вышел на улицу покурить; «Времена года» сияли ночной иллюминацией. На поминки никого не пригласили, Ральф Джордано узнал о смерти моего отца из газет. И когда я скомкал листок со стихами Йейтса и своей так и не произнесенной поминальной речью и бросил комок в ближайшую урну, за моей спиной внезапно возник гамбургский адвокат отца, дружески обнял меня за плечи и заверил, что, если мне понадобится, я могу рассчитывать на него в любой момент. Да-да, в любой. И ущипнул меня за плечо, по-ганзейски. Я закричал бы, если б не был таким трусом.
Что делал мой отец во время войны? Он ведь родился в 1921 году, первосортное пушечное мясо, так сказать. В интернете можно прочесть, что он служил в пехоте и был ранен. Но это не могло быть правдой. Он никогда ничего подобного не рассказывал. Ранен кем? А главное, где? Он всегда рассказывал, что его должны были отправить на Восточный фронт, но его лучший друг, капитан медицинской службы Гюнтер Кельх, загнал его в ледяную Эльбу, чтобы он там получил воспаление легких, а потом вспрыснул тифозную палочку, чтобы его, смертельно больного и очень заразного, не отправили на восток. Отец рассказывал нам, что всю жизнь был социал-демократом, нацистов он ненавидел, а сразу после войны действительно был в США по программе American Field Service. Несостыковки в рассказах отца не выбивали меня из колеи до такой степени, как правда маминой семьи.
Так вот этот его друг, капитан медицинской службы Гюнтер Кельх, был гомосексуалом, обожал Цару Леандер и так или иначе находился рядом всё мое детство. Отец всегда говорил, что Гюнтер, Гюнтимышик, как нам велено было его звать, спас ему жизнь в войну, поэтому теперь он должен о нем заботиться, это его святой долг. Гюнтер Кельх получал ежемесячное содержание, поскольку не удерживался на работе по причине алкоголизма, его быстро отовсюду выгоняли; отец одевал его, как правило, в костюмы Акселя Шпрингера, которые брал у него для Гюнтера в Кампене на Зильте, поскольку оба они, Аксель и Гюнтимышик, были сходного телосложения, высокие, элегантно-сухощавые.
Так вот Гюнтимышик, которому отец оплачивал квартиру в Гамбурге неподалеку от Ротенбаумшоссе, любил танцевать перед нами с мамой в женских нарядах. Мы знали наизусть все шлягеры Марлен Дитрих и Цары Леандер, но в особенности песенку об островах Фиджи, где красили тело в черный цвет, это была любимая песня Гюнтимышика, а также Yes, sir и Лили Марлен, и Я знаю, наконец случится чудо, и, конечно, Вальдемар.
У отца, судя по всему, была интрижка с Инге Фельтринелли, чей муж Джанджакомо, итальянский издатель, всё сильнее подпадавший под влияние воинствующего левого экстремизма, погиб в начале 70-х годов при подготовке террористического акта со взрывчаткой.
Шале Акселя Шпрингера в окрестностях Гштада однажды подожгли, как и его вторую виллу на Зильте, так называемый Кленгерхоф. Наше шале в Гштаде, между прочим, тоже сгорело, после того как отец продал его Мику и Муку Фликам[15]. Дома то и дело горели, и я всё спрашивал себя, с чего бы это – может быть, мама знает. Я, во всяком случае, не знал.
Когда я был маленьким, я часто стоял, цепенея от страха, перед картиной, висевшей у нас в шале над деревянной лестницей на верхний этаж. Кто-то из голландцев, на заднем плане там был горящий крестьянский двор во Фландрии, и это всё, что я помню, ну может еще снег, вороны, кружащие по зимнему небу в белых облачках, и люди в черном, входившие в картину слева. Теперь мне сдается, что картина, висевшая там на стене, была «Охотниками на снегу» Питера Брейгеля, – полотно, которое я десятилетия спустя увидел в венском Музее истории искусств.
Как бы то ни было, огонь остался во мне навсегда, пожар, остатки сгоревшего шале, а также начальная школа Мари-Хосе в Гштаде, которую я поджег в возрасте семи лет, и выложенные передо мной в Тунском ювенальном суде полароидные снимки, доказывавшие мою вину. На фотографиях можно было увидеть обугленную губку, полностью сгоревшие потолочные перекрытия и валяющиеся на полу до половины обугленные спички со скукоженными, свихнутыми набок головками. Еще там была запечатлена полупустая зеленая бутылка зажигательного спирта с обтрепанной бежевой этикеткой, а также изоляционная пакля, клоками выдранная из крыши, сложенная в углу чердака и подожженная. Эти фотографии снятся мне до сих пор, словно бракованные кадры из полароидной коллекции Андрея Тарковского. Почти полстолетия назад, сияющий европейский мир.


