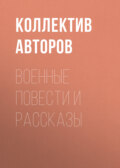Константин Симонов
Разные лица войны (сборник)
6
Начальник штаба батальона, которого Пантелеев утром посулил расстрелять, если тот не переменит своего командного пункта, перебрался в пионерлагерь и встретил Пантелеева старательным докладом: что свой КП, если не будет других приказаний, он расположил здесь, что связь к артиллеристам протянута, а кроме того, он выбросил вперед, в поддержку роте, два приданных ему полковых миномета.
– Куда вы их выбросили? – спросил Пантелеев.
Начальник штаба показал рукой вперед и налево. Уходившая к морю коса закрывалась пригорком, и минометы были не видны отсюда, но зато, наверно, были хорошо видны из Геническа.
Тяжелые минометы вполне можно было поставить и здесь, в пионерлагере. Но у Пантелеева была слабость: пережив в начале войны всю горечь отступления от Ломжи до Витебска и в душе не примирясь с происшедшим, он каждый раз радовался стремлению людей занять позиции поближе к противнику и редко отменял в таких случаях даже нецелесообразные приказания подчиненных. Так он поступил и сейчас. Минометы были не на месте, но в батальоне начинал чувствоваться порядок.
– Товарищ дивизионный комиссар, не обнаружили старшего лейтенанта Васина? – волнуясь, спросил начальник штаба батальона, с самого начала хотевший задать этот вопрос, но не посмевший сделать это раньше доклада.
– Какого Васина?
– Командира батальона.
– В плен забрали вашего Васина, – угрюмо сказал Пантелеев, неохотно возвращаясь в мыслях к событиям ночи. – Среди убитых нет, значит, в плен забрали. Что он собой представлял-то у вас?
– Хороший командир батальона, – горячо сказал начальник штаба. – Я его знаю с училища. И учился одним из первых и кончил хорошо.
– Кончил хорошо, – все так же угрюмо сказал Пантелеев, – а войну начал плохо. А вы как училище кончили, тоже хорошо? – вдруг спросил он.
– Средне, товарищ дивизионный комиссар.
– Ну вот, кончили средне, а теперь за командира батальона приходится вас оставлять. Доложите об этом командиру полка. Где он, кстати?
– Не знаю, товарищ дивизионный комиссар. Здесь его не было.
Пантелеев вздохнул и ничего не сказал. Всю желчь, которая накопилась у него за день на командира полка, он бережно, как бы сливая по капле в один сосуд, оставлял до предстоящей встречи с ним.
– Комиссар полка ранен и, как видно, тяжело, – сказал он. – Как только стемнеет – вынесите. И теперь же тяните связь в роту, чтобы до полной темноты связь была! Понятно?
– Понятно, товарищ дивизионный комиссар.
– Где моя машина?
– Сейчас придет, товарищ дивизионный комиссар, – с виноватым видом сказал начальник штаба. – Поехала ящики с минами подвезти к минометам, – и он снова указал рукой налево за песчаный гребешок. – Она и минометы туда под огнем отвезла – подцепила и отвезла, один за одним. Боевая дивчина, – добавил он с нескрываемым молодым восхищением.
Пантелеев посмотрел на его залившееся румянцем лицо и сказал насмешливо, но не сердито:
– Дивчина-то боевая, да вы-то не больно боевые. Обрадовались, что одна дивчина храбрее всех вас, мужиков, нашлась, так и ездите на ней взад и вперед!
– Тут под рукой других шоферов нет, товарищ дивизионный комиссар, а она сама вызвалась, прямо говоря, напросилась.
– Между прочим, и на руках могли бы минометы подтащить вперед.
– Песок, товарищ дивизионный комиссар, долго, а нам побыстрей хотелось.
– Ну что ж, подождем. К медали представлю, если живая вернется.
В последних словах была укоризна, и начальник штаба, почувствовав это, вновь покраснел.
– Товарищ дивизионный комиссар, – сказал он, – разрешите доложить – шпионку задержали.
– Шпионку? – недоверчиво переспросил Пантелеев. – Небось какая-нибудь баба посмелей осталась в подвале, когда все ваши драпанули, а теперь вылезла, и готово – шпионка! А уполномоченный уже рад стараться! Кто ее задержал – уполномоченный?
– Так точно, уполномоченный.
– Позовите его ко мне.
Через минуту к Пантелееву подошел уполномоченный особого отдела полка – рослый парень с красивыми серыми глазами. Одет он был не по форме, вместо шинели – черная кожанка.
– Что, еще с гражданской войны таскаете? – неприязненно посмотрев на кожанку, съязвил Пантелеев. – Комиссарите?
– Нет, товарищ дивизионный комиссар, – заметив насмешку, но не теряясь, ответил уполномоченный. – Шоферская привычка. Я финскую в шоферах служил, а потом перевели в особисты.
– Шофер, значит, – сказал Пантелеев. – Мины под огнем у вас девка перебрасывает, а вы шофер!
– Я не мог отлучиться – с задержанной допрос снимал, – сказал уполномоченный.
Он держался с достоинством, но любивший это в людях Пантелеев и тут не смягчился.
– Задержанная, – пробурчал он, – наверное, тетку Марфу из-под картошки вытащил – вот и вся ваша шпионка.
– Нет, товарищ дивизионный комиссар, задержана женщина из Геническа. Переправилась сюда, на Арабатскую стрелку, ночью вместе с немцами, а дальше пошла с заданием – посмотреть где и что и вернуться в Геническ. Сообщает, что мост при взрыве только в воду осел, можно в Геническ по пояс в воде перейти. Вообще важные показания дает – может быть, вы сами с ней поговорите?
– Ладно, посмотрим, что за птица, – сказал Пантелеев, смущенный тем, что, кажется, невпопад придрался к уполномоченному. Он был доверчив и не стеснялся этого, потому что доверчивость редко обманывала его в жизни. Хотя он теоретически и верил, что среди советских людей могут существовать шпионы, но душа его этого не принимала. – Пойдем посмотрим, – сказал он Лопатину. – Когда еще живую шпионку увидишь, если, конечно, она шпионка! – продолжая гнуть свое, искоса взглянул он на уполномоченного.
Задержанная женщина сидела у стены сарая на кирпичах сушеного кизяка. Подле нее стоял скучающий конвоир. Пантелеев грузно опустился на козлы для пилки дров; уполномоченный и Лопатин стали рядом.
Женщине на вид было лет тридцать. Она была некрасива, даже уродлива: землистого цвета лицо, глубоко запавшие глаза, короткая верхняя губа, обнажавшая неровные темные зубы, прямые пряди жидких и сальных черных волос, вылезавших из-под черной, в мелкий горошек косынки. Шея у женщины была тощая, а одно плечо перекошено – она была кособока и казалась худой. Но у нее были широкие бедра и грязные босые толстые ноги, никак не сочетавшиеся с маленькой птичьей головой.
Пантелеев с минуту молча рассматривал ее и лишь потом начал задавать вопросы, к которым уполномоченный изредка добавлял свои. Женщина отвечала на все вопросы одинаковым голосом, равнодушно глядя в одну точку перед собой, независимо от того, о чем ее спрашивали и кто говорил с ней – Пантелеев или уполномоченный.
Пантелеев после первого же ее ответа понял, что уполномоченный прав – женщина действительно переправилась ночью вместе с немцами из Геническа и оставлена ими здесь. Она не отрицала этого, а когда ее спросили, что ей за это пообещали дать немцы, спокойно ответила, что они обещали ей полторы тысячи рублей.
Ее признание и полученное от нее подтверждение уже появившейся собственной догадки – что немцы могут переходить пролив по плохо взорванному мосту – исчерпывали практический интерес Пантелеева к задержанной. Однако он продолжал задавать ей все новые и новые вопросы, казалось, уже не имевшие прямого отношения к делу. Он ждал ответа на один главный вопрос, который беспокоил его сейчас: что случилось, почему эта вот сидящая перед ним простая, плохо одетая женщина стала тем, чем она стала, – немецкой шпионкой? Почему она согласилась служить немцам, которые пришли в Геническ всего три дня назад, немцам, которых она раньше не знала и не видела и с которыми ее до этого ничто не связывало?
– Пиши, Лопатин, пиши, – угрюмо говорил, все более расстраиваясь по мере допроса, Пантелеев. – Пригодится для истории. Если мы с тобой доживем до истории, – мрачно, не похоже на себя, пошутил он.
И Лопатин писал.
Женщине было 28 лет, она назвала большое село под Геническом, где она родилась в семье самого богатого из тамошних хозяев, у которого были уже после революции и мельница, и сельская лавка, и батраки, работавшие на арендованной земле. Отец в детстве, по пьяному делу, ударил ее поленом, разбил ключицу и на всю жизнь оставил свою и без того некрасивую дочь кособокой. Но он, сказала она, терпеливо, хотя и с удивлением, отвечая на вопросы, не имевшие, казалось, никакого отношения к тому, что происходило с нею сейчас, потом всю жизнь жалел ее и обещал за ней большое приданое.
– Всего много давал, трех коней давал, – сказала она, и впервые за время допроса потухшие, глубоко запрятанные глаза ее блеснули от этого воспоминания. Несмотря на ее уродство, небогатые женихи домогались ее. Наконец ее высватали, и ей уже мерещилась свадебная тройка, свой дом, отцовское приданое, а вместо всего этого началось раскулачивание. Отца раскулачили первым в селе, и он с матерью и старшими братьями поехал в теплушке куда-то на север – говорили, в Кемь – и сгинул там навсегда. Почему ее не выслали, оставили, она не сказала, а Пантелеев не спросил. Может быть, потому, что ей не исполнилось еще восемнадцати.
Жениха сразу как ветром сдуло, словно его и не было, потому что вместо завидной невесты с богатым приданым, домом и тройкой коней осталась уродливая девушка с перебитым плечом, никому не нужная, никем не желанная, да еще раскулаченная, без кола и двора. Она ушла из села в Геническ, ходила с постирушками, мыла полы, была на поденной работе, а под конец устроилась судомойкой в городской столовой, снимая углы то у добрых, то у недобрых людей. Кто знает, что творилось в ее душе все эти годы, но ее глаза, сверкнувшие снова, во второй раз, сказали Лопатину, который, следя за выражением ее лица, писал, почти не глядя на бумагу, что, наверное, в душе ее царил такой ад разрушенных надежд и нестерпимых воспоминаний о несостоявшемся женском счастье, что этим одиноко запертым в душе чувствам, пожалуй, не подберешь и названия.
За год перед войной в Геническ вернулся ее троюродный брат, тоже из раскулаченных. Вернулся с документами на имя кого-то другого, умершего в ссылке.
– Сбежал? – спросил Пантелеев.
– Может, и сбежал, – равнодушно сказала она.
На первых порах она стала подкармливать его, вынося ему по вечерам из столовой все, что попадалось под руку, а он, в благодарность за это, стал жить с ней. Потом, осенью, его, так под чужой фамилией, и взяли в армию, и он уехал в часть под Измаил. А три дня назад пришел в Геническ вместе с немцами. Он рассказывал ей, что служит у них в комендатуре, приносил немецкую водку и по ночам спал с ней, как раньше. Вчера он пришел к ней среди ночи и сказал, чтоб она шла с ним. Она пошла, не расспрашивая. Они сначала сидели на берегу и слушали стрельбу внизу, под Геническом, на стрелке, а потом сели в лодку вместе с немецкими солдатами и переехали сюда, на косу. При этом она видела, как другие немцы в это же время переходили пролив по взорванному мосту. Он велел ей, пока не рассвело, дойти до пионерлагеря, а потом пойти в деревню Геническая Горка и еще дальше, на соляные промыслы, и посмотреть, много ли там советских или немного, есть ли пушки и где они стоят. Он велел ей, если ее спросят в Генической Горке, откуда она, чтобы она ответила: «С сольпрома», а если ее спросят об этом же на сольпроме, сказала бы наоборот, что она из Генической Горки. И еще он велел ей подождать, пока стемнеет, и ночью выйти берегом обратно к мосту, он будет ждать ее там. Он сказал, что, когда она вернется, немцы дадут ей полторы тысячи, а может, и больше.
Когда она перестала вспоминать о прошлом, глаза ее снова потухли, и обо всем, что произошло вчера и сегодня, она говорила бездушно, без раскаяния и сожаления.
Она просто рассказывала все, как было, не выражая никаких чувств, в том числе и чувства страха. Лишь один раз, говоря про то, как ее сожитель пришел за ней ночью и повел ее на берег, она вдруг сказала: «И я пошла за ним, как собака…» Но это тоже не было самоосуждением: просто она до предела точно выразила одной фразой все их отношения. Он был единственный, кто снизошел до нее, жил с ней раньше и жил с ней сейчас, и она пошла за ним, как собака, туда, куда он велел, и сделала то, что он велел.
О полутора тысячах она сказала с бесстыдной простотой – это было не главное, главное было то, что он ей велел.
Ответив на последний вопрос, она подождала, не спросят ли ее еще, потом облизала пересохшие губы и вытерла их кончиком платка.
– У, ведьма, – раздался звонкий и злой девичий голос за спиной Лопатина. – Так бы и стрелила тебя!
Он повернулся. Сзади него стояла неизвестно когда взявшаяся здесь шоферка – Паша Горобец.
Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся как струна, натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка, с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос.
– На сольпром к нам ходила, – сказала девушка, и голос ее задрожал от гнева. – За сольпромовскую хотела себя выдать… – Это, казалось, сердило ее больше всего. – Я на сольпроме всех знаю, я сама сольпромовская, и никогда она сольпромовской не была, – обращаясь к Пантелееву, продолжала шоферка, и чувствовалось, что это очень важно для нее – что черная женщина не сольпромовская и что на сольпроме никогда таких не бывало.
– А она и не говорит, что она сольпромовская, – сказал Пантелеев, – она геническая, да и не геническая она, а немецкая. Пришли фашисты, и пошла за ними, как собака, – по-своему повертывая то, что сказала женщина, добавил Пантелеев, вставая.
– Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее, и все, – просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому не обращаясь, отвечая на свои мысли, задумчиво и убежденно добавила: – Я бы ее стрелила.
– «Стрелить» успеем, – сказал Пантелеев, – а вот посмотреть на нее – что в нашей жизни бывает, это надо! Смотри на нее, Паша, – повернулся он к девушке. – Смотри как следует и запоминай.
– А чего мне ее запоминать, – с неожиданной обидой в голосе отозвалась она. – Очень мне надо ее запоминать… – И в этих простых словах была такая сила чистого девичьего презрения, что Лопатин невольно залюбовался ею.
– Оформляйте протокол допроса, – сказал Пантелеев уполномоченному, – и сегодня же отправляйте в Симферополь. – И другим, веселым голосом крикнул девушке: – Поехали, шоферка! Где твоя полуторка-то?
– За домом, сейчас выведу, – откликнулась она на бегу.
Пока шли к машине, Лопатин на ходу задумчиво вертел в руке сплющенную пулю. Именно она, провалившись в сапог, и мешала ему идти. Он вынул ее еще раньше, вынул и забыл о ней, а сейчас захотел закурить, полез в карман за спичками и снова вспомнил.
– Повезло, – бросив взгляд на пулю, которую вертел Лопатин, сказал Пантелеев. – Будешь в Москве, подари мамаше или жене.
Он ждал, что Лопатин ответит на его шутку, но Лопатин ничего не ответил. Мамаши у него давно не было, а его жене эта пуля была так же ни к чему, как в последние годы ни к чему был и сам Лопатин.
Велихов, стоя перед машиной, крутил заводную ручку.
– Вы не так, – говорила Паша, – дайте я сама.
Но Велихов еще несколько раз с силой крутанул ручку, и машина завелась.
– Ну и спасибочко, – сказала Паша. – Только зря, я бы сама. – И полезла в кабину.
– Одну минуту, товарищ дивизионный комиссар, разрешите, я сена в кузов возьму, – сказал Велихов.
– Бери, бери. А то корреспондент будет на меня потом обижаться, что я в кабине сидел, а он в кузове бока намял, а человек уже, вроде меня, не молоденький.
Велихов притащил охапку сена, швырнул ее в кузов, забрался первым и заботливо протянул руку Лопатину.
– Побольше себе подгребите, – сказал Велихов, когда полуторка тронулась, и стал подгребать сено под бок Лопатину.
Удивительно, как всего несколько часов могут переменить человека. Утром это был еще нагловатый, глупо цукавший пожилого шофера и на каждом шагу стремившийся подчеркнуть свою значительность нахальный адъютантик, а сейчас он как-то вдруг за день похудел, и даже лицо у него стало не таким розовым, как утром, а более осмысленным и взрослым. Он впервые был в бою, видел, как вокруг умирают, и у него появилось что-то, чего не было раньше: что-то понимающее и доброжелательное по отношению к людям, которые смертны, так же как и он сам. Наверное, он только сегодня это почувствовал, раньше он это знал, но не понимал. А сегодня понял, что можно не успеть сделать людям добро и не успеть исправить зло, и это подействовало на него.
«А может, и нет, может, мне все это только кажется, – подумал Лопатин. – Кажется, потому что мне самому хочется после сегодняшнего дня как-то по-другому относиться к людям, и я наделяю этим собственным чувством других, хотя они, может быть, вовсе его и не испытывают».
Около позиций морской батареи Пантелеев остановил машину и, еще прежде чем открыть дверцу, с радостью увидел спешившего навстречу маленького востроносого полковника, натуго затянутого в полевую портупею и обвешанного со всех сторон всем, что полагалось иметь по штату, – «наганом», планшетом, полевой сумкой и биноклем. Даже свисток на витом кожаном шнурке был засунут у полковника на свое, положенное для свистка место на портупее.
И «наган», и бинокль, и планшет, и сумка были самых обыкновенных размеров, но полковник был такой маленький, что все вещи выглядели на нем очень большими, и, хотя их было не больше, чем на любом другом полковнике, казалось – он обвешан ими с головы до ног. Фуражка у полковника была заломлена набок, а остренький носик весело морщился.
Пантелеев вышел из машины и невольно улыбнулся.
Шедший ему навстречу полковник Ульянов, заместитель генерала Кудинова по строевой части, всю финскую кампанию отлично командовал полком в дивизии, где Пантелеев был комиссаром. Даже на строгий суд Пантелеева он был человеком безусловно храбрым и к тому же расторопным, и Пантелеев сейчас радовался, что Ульянов появился на продолжавшей беспокоить его Арабатской стрелке.
Ульянов отдал рапорт, чуть заметно морща при этом носик и смеясь маленькими глазками.
– Чему радуешься? – спросил Пантелеев. – Чего веселого тут обнаружил?
– Пока ничего, – сказал Ульянов. – Хвастаться нечем, порядка еще нет, но будет.
И Пантелеев понял, чему радовался Ульянов. Много лет самостоятельно прокомандовав полком, он привык полностью отвечать за порученное ему дело. Должность заместителя, да еще при льстивом с начальством и грубом с подчиненными Кудинове, была ему не по характеру. И он откровенно радовался, что его сейчас послали подальше от Кудинова, наводить порядок здесь, на Арабатской стрелке.
– Я здесь час пробуду, – вспомнив о Лопатине и повернувшись к машине, крикнул Пантелеев, – вылезайте, отдохните пока.
Он хотел поговорить с Ульяновым с глазу на глаз.
– Эх, Ульяныч, – сказал он, поднимаясь вместе с Ульяновым на насыпь. – Жаль, тебя вчера здесь не было. Так иногда действуем, словно взяли на себя подряд – немцам лагеря пополнять.
– А что, много пленных?
– Да, – сказал Пантелеев, – и убитых немало и полста человек вчера в плен отдали. Вот именно, что не они взяли, а мы отдали – Бабуров ваш! Спроси такого: веришь в нашу победу? – он на тебя глаза вытаращит – мол, только отпетая сволочь в победу не верит! А поскреби его – в нем вера отдельно от дел живет. Сам в победу верит, а своих людей в плен отдает! Что за прок в такой вере? На ней до победы не доедешь!
– Хорошо, что я вас увидел на дороге, – сказал Ульянов, бывший прежде на «ты» с Пантелеевым, но не считавший возможным обращаться к нему по-старому при его теперешней должности. – А то бы разъехались, я как раз собирался в пионерлагерь, а оттуда в роту сходить.
– Ничего, через час уеду, сходишь, – сказал Пантелеев. – Надо весь круг вопросов с тобой обсудить. А то они ведь, немцы-то, не дураки – вчера по незатопленному мосту перелезали, а завтра сядут на шаланды да где-нибудь посредине стрелки высадятся. Хоть мы и кричим, что они все по шаблонам воюют, но это пока самоутешение; то одним шаблоном нас стукнут, то другим навернут, то третьим огреют – и все разные! А что мы все до одной лодки из Геническа угнали, так это только по отчетности так красиво выходит, а если без отчетности – там лодок еще хватит. Мост у нас по отчетности тоже взорван, а они по этому мосту вчера пешком перешли. Командира полка видел?
– Он здесь, – сказал Ульянов. – Я его только сейчас с собой сюда прихватил.
– Откуда? – спросил Пантелеев, уже предчувствуя ответ Ульянова.
И Ульянов действительно ответил, что застал командира полка на бывшем КП батальона, то есть именно там, где он еще утром ухитрился отстать от Пантелеева.
– Где он? – тихо и свирепо спросил Пантелеев.
Они поднялись на насыпь и подошли к орудию.
– Найдите командира полка, – приказал Ульянов стоявшему у орудия моряку.
Но командир полка не спешил показаться на глаза Пантелееву. Действительно ли его не сразу нашли, или он, страшась предстоящего разговора и не в силах совладать с собой, бессмысленно оттягивал его еще на несколько минут, но Пантелеев и Ульянов долго стояли у крайнего орудия батареи, а Бабуров все не шел и не шел.
Ульянов попытался заговорить, но Пантелеев не ответил. Он неподвижно стоял, широко расставив ноги, набычившись, глядя прямо перед собой в землю. Он ожидал прихода командира полка, и ничто другое сейчас его не интересовало.
Наконец появился Бабуров – он вынырнул из-за орудия и, рысью подбежав к Пантелееву, суетливо стал объяснять, что утром не выехал вместе с дивизионным комиссаром потому, что в это время его позвали к телефону, а потом, когда он вышел из землянки, машина уже отъехала – он кричал, махал руками, но она не остановилась. Все это было вранье, но Пантелеев слушал, не перебивая. Бабуров кончил говорить, сделал паузу, радуясь, что Пантелеев ни разу не перебил его, и, ободрившись, добавил еще несколько слов в свое оправдание. Пантелеев по-прежнему молчал, и это затянувшееся молчание постепенно стало таким угрожающим, что даже Ульянов невольно передернул плечами.
– Вы трус, – негромко и медленно, в полной тишине сказал наконец Пантелеев. – Вы больше не командир полка. Я вас отстраняю от должности и отдаю под суд. Командиром полка временно назначаю вас, – повернулся Пантелеев к Ульянову и, кивнув на Бабурова, добавил: – Позаботьтесь, чтобы его к утру доставили в Симферополь.
Услышав это со смертельным равнодушием сказанное слово «доставили», Бабуров задрожал. Он задрожал в буквальном смысле этого слова, как человек, которого бьет малярия. Он трясся, как лист, заикался, и из его трясущихся губ беспорядочно выскакивали неживые и уже никому не нужные слова о том, что он виноват, но что он не трус, что, если надо, он готов… и еще что-то, чего Пантелеев не слушал, а только терпеливо ждал, когда он кончит.
Пантелеев думал о том, что даже ему, человеку, видавшему всякие виды на всех войнах, начиная с германской, все-таки очень редко – пять-шесть раз за всю жизнь – приходилось сталкиваться с такими патологическими трусами, как этот трясущийся полковник: это же надо представить себе – командир полка, вместо того чтобы сопровождать члена Военного совета на позиции, не садится в машину и остается. Остается потому, что боится поехать на передовую, остается, понимая, что потом его за это отдадут под суд, остается, не надеясь на пощаду, а просто будучи не в силах превозмочь себя.
«А может быть, он все-таки на что-то надеялся? – подумал Пантелеев. – На что?» И вдруг спросил вслух:
– Вы что, надеялись, авось меня убьют там, впереди? Меня убьют, другие не узнают о вашем поведении, споете им Лазаря, и будут взятки гладки! Так, что ли? Просчитались! Я еще провоюю до конца войны, а вас будут завтра судить, потому что вы трус и вас даже в рядовые бойцы разжаловать нет смысла. Боец – это бой. У бойца честь и совесть есть! А у вас где они?
И Пантелеев, нисколько не смягчившись от того, что высказал наконец в лицо полковнику все накопившееся за день, и даже не считая сказанное жестокостью, прошел мимо Бабурова, не взглянув на него.
Маленький Ульянов, идя вслед за ним, не удержался, снизу вверх, мимоходом посмотрел Бабурову в лицо и встретился с ним взглядом. Командир полка стоял, бессильно опустив плечи и почти до колен свесив руки. На лице его было такое выражение тоски и отчаяния, какое бывает у людей только перед смертью. Ульянов подумал, что если бы Пантелеев сказал все это не Бабурову, а ему, Ульянову, и если бы ему нечего было на это ответить, то он бы тут же, на месте, вынул пистолет и застрелился.
– Петр Андреич, – еле слышно шепотом сказал Бабуров, глядя на Ульянова и удерживая его взглядом. – Петр Андреич, – он наклонил свое толстое, заросшее седой щетиной лицо, и две слезы выкатились из его глаз.
Ульянов хотел задержаться возле него, но Бабуров больше ничего ему не сказал, а Пантелеев, не поворачиваясь, уже звал его:
– Полковник Ульянов, где вы? – И Ульянов поспешил вслед за ним, думая о том, что, хотя не поехать вместе с начальством вперед, на позиции своего же собственного полка, конечно, неслыханная вещь, все-таки ему жаль Бабурова. Еще третьего дня Бабуров присутствовал в штабе дивизии на совещании у Кудинова и, казалось, ничем не отличался от других командиров полка, а сегодня он уже не командир полка, а завтра его будут судить, а послезавтра, вполне возможно, разжалуют или расстреляют за трусость.
Когда Бабуров остановил взглядом Ульянова и назвал его по имени и отчеству, он, в сущности, ничего не хотел сказать ему. Если бы Ульянов остановился и спросил, что ему хочет сказать Бабуров, Бабуров не знал бы, что сказать. Ему просто безотчетно хотелось, чтобы хоть кто-нибудь понял, как все ужасно и нелепо получилось, и пожалел его. Все творившееся сегодня в его душе было совсем другим и непохожим на то, что думал о нем Пантелеев. Он не сел в машину с Пантелеевым и не догнал его потом на другой машине не потому, что, как о нем думал Пантелеев, он трусил обстрела или боялся идти в атаку – он не боялся этого, а вернее, даже не думал об этом. Но с самого утра, когда он сначала почувствовал из отрывочных донесений, что за ночь на Арабатской стрелке у него в полку произошла катастрофа, когда потом Кудинов сразу же в ответ на доклад стал кричать по телефону, что если выяснится, что у него погибла рота, то он пойдет под суд, и когда, наконец, вслед за этим к нему вдруг приехал член Военного совета, – Бабуров все больше и больше терял голову.
Он настроил себя на самое худшее, на то, что рота взята в плен, а морская батарея захвачена, и представил себе всю меру своей ответственности за это. Он представил себе, как ему придется, находясь рядом с членом Военного совета, отвечать за все, что тот увидит, и, еще не сознавая до конца, что делает, взял и не поехал вперед с Пантелеевым.
Весь день, оставаясь здесь, он то придумывал разные объяснения, почему он остался, то решался ехать вслед за Пантелеевым, но, понимая, что не сможет объяснить ему, почему не поехал сразу, отказывался от этого намерения.
Весь день он делал вид, что занимается всякими необходимыми для полка делами, но, в сущности, ничего не делал и только с ужасом ждал возвращения Пантелеева. Он не думал о смерти Пантелеева, но страстно желал, чтобы на обратном пути Пантелеев вдруг проехал мимо, чтобы каким-то образом само собой вышло так, чтоб они не встретились хотя бы сегодня.
Бабуров вовсе не был трусом от природы. Во время гражданской войны он участвовал в боях и даже имел почетное оружие, но в тридцать седьмом году его, военного комиссара Керчи, вдруг пришли и арестовали. Это была та самая волна арестов тридцать седьмого года, которая теперь, в дни войны, вольно или невольно всем приходила на память. И хотя, быть может, никто еще не осознавал до конца всей меры происшедшей тогда, в тридцать седьмом году, трагедии, хотя многие внутренне сомневались, считая, что одни арестованы правильно, а другие – по ошибке, но почти каждый, кто над этим задумывался, уже чувствовал в душе, что все эти аресты, вместе взятые, правильными быть не могли, потому что это противоречило бы и здравому смыслу, и вере в людей, и, самое главное, вере в советскую власть, двадцать лет воспитывавшую этих людей.
Когда Бабурова арестовали и потребовали, чтобы он признал соучастие в каком-то заговоре, о котором он не имел представления, он на всю жизнь испугался. Испугался всего, в чем когда-нибудь и кому-нибудь вздумалось бы его обвинить. Испугался всякой ответственности, которую ему правильно или неправильно могли приписать.
Были люди, которые выдержали и не такое, и, однако, не сломались, и не согнулись, но он не был сильным человеком. И когда после двух лет тюрьмы его выпустили, сказав, что он ни в чем не виноват, то он, еще здоровый на вид мужчина, вышел оттуда больным самой страшной из человеческих болезней – он боялся своих собственных поступков.
И вдруг теперь, на четвертом месяце войны, когда ему дали полк, фашисты, в первом же бою перебив его роту, оказались в Крыму. Оказались именно там, где стоял его полк, его рота и где именно он нес всю полноту ответственности за то, чтобы фашисты не попали в Крым. Он испугался этого так, что уже никакие доводы разума не могли заставить его действовать вопреки страху ответственности.
Сейчас, после того как Пантелеев и Ульянов отошли и где-то невдалеке еще слышались их голоса, Бабуров не думал о будущем, а неудержимо боялся его. Из всего, что говорил Пантелеев, самыми нестрашными были слова, что его, Бабурова, разжалуют в рядовые. Если бы минуту назад Пантелеев сказал ему, что он разжалован в рядовые, и приказал взять винтовку и идти на передовую бойцом, он бы не испугался этого, наоборот, с облегчением почувствовал бы, что с ним уже сделали все, что могли сделать за его вину, и теперь – будь что будет! Но одна мысль, что завтра его повезут в Симферополь и будут спрашивать, как он допустил, что фашисты ступили на крымскую землю, а потом трибунал удалится на совещание и он будет сидеть и ждать приговора, – одна эта мысль приводила его в такой ужас, что он боялся не только завтрашнего дня, но и сегодняшней ночи, в течение которой ему придется ждать того, что произойдет с ним завтра.
Содрогаясь от озноба, пошатываясь и плохо соображая, куда и зачем он идет, Бабуров медленно сошел с насыпи, прошел мимо машины Пантелеева, около которой сидел и разговаривал с девушкой-шофером какой-то худой человек в очках, мельком запомнившийся ему утром, прошел мимо откозырявших ему и с удивлением посмотревших на его странное, отчужденное лицо бойцов, прошел еще сто, и двести, и триста шагов по кочковатой песчаной земле Арабатской стрелки, все еще не зная, что он сделает, а чувствуя только одно – что он боится дальше жить. Зайдя за небольшой бугорок, из-за которого уже нельзя было видеть ни стоящих на позиции орудий, ни бойцов, ни машины, он с минуту постоял, вынул из кармана носовой платок, вытер им лицо, снова сунул платок в карман, потом достал из кобуры пистолет, несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул и, задержав дыхание, выстрелил себе в грудь, против сердца.