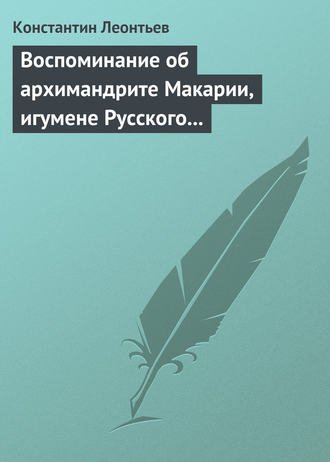
Константин Николаевич Леонтьев
Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря св. Пантелеймона на Горе Афонской
В башне есть очень маленькая и бедная домовая церковь. В ней-то и совершил о<тец> Макарий литургию в сослужении молодого приходского греческого священника из ближайшего селения Ериссо. Жители этого селения ненавидят афонцев, по древнему преданию, за то, что когда-то и какой-то из византийских императоров отнял у них землю и отдал святогорцам. Судя по тому, что сербский[7] монастырь Хилендарь – самый близкий из всех монастырей к черте Афона со стороны перешейка, вероятно (если только предание верно), земля эта досталась ему. Незадолго до моего приезда на Св<ятую> гору сгорела у этого монастыря, и без того бедного, значительная часть прекрасного хвойного леса, и все подозревали, что жители села Ериссо нарочно подожгли его. Была ли какая-нибудь тяжба по этому поводу – не знаю; но помню, что сам о<тец> Макарий рассказывал мне об этих враждебных отношениях соседних селян. Тем не менее он с молодым священником, приглашенным для совместного с ним служения, не только обошелся как нельзя ласковее, но даже на прощание подарил ему для его приходской церкви очень красивые и совсем новые воздухи{14} белого глазета с пестрым шитьем. (О<тец> Макарий привез их с собою, зная, до чего убога церковь на этой заброшенной башне.)
Когда, по окончании обедни, мы сели – он на мула, я на лошадь свою – и поехали обратно в Руссик, о<тец> Макарий сам сознался мне в этом добром деле своем, небольшом, конечно, по вещественной ценности, но очень значительном по нравственному смыслу (ибо это был дар святогорца представителю враждебного святогорцам селения).
Отец Макарий сказал мне с тем веселым и сияющим умом и добротою выражением лица, которое я так любил:
– Мне уж и его, бедного (т. е. молодого священника), захотелось утешить. Пусть и он повеселее уедет домой…
Отец Макарий сказал «и он», потому что он знал, как я был в этот день некоторыми обстоятельствами обрадован и утешен.
Он знал также, до чего я доброту и щедрость люблю по природе моей и как я в то время к монашеству привязался. Другому, быть может, он бы и не нашел нужным об этом сам говорить; но он угадывал, до чего мне будет приятно это слышать. Доброта глубокая часто гораздо виднее в мелочах жизни и тонкостях сердца, чем в случаях крупных; в последних нередко душа и жесткая, но не лишенная благородства, смягчается и становится добра. И каждый из нас, я думаю, в жизни своего сердца может припомнить такие случаи, когда какое-нибудь тонкое к нам внимание, внушенное другому человеку мгновенным и милым движением души, несравненно больше нас тронуло, чем самые серьезные благодеяния и услуги.
Так и в этом неважном, казалось бы, деле, в котором я был вовсе в стороне, в деле красивых, но недорогих воздухов, подаренных почти что врагу, и в улыбке, и в словах о<тца> Макария, обращенных ко мне, когда мы тронулись в путь, – мое и без того так сильно расположенное к нему сердце прочло столько живой и тонкой любви, что мне захотелось тотчас же поцеловать его благородную руку! И будь мы одни, без свиты, я, наверное, и сидя верхом сделал бы это.
Да, меня восхитило это трогательное движение его сердца; но не так взглянул на дело общий нам обоим, суровый и великий наставник.
Когда, вернувшись в Руссик, я пришел в келью к о<тцу> Иерониму, он сказал мне при самом архимандрите.
– Отец Макарий-то, видели? Воздухи подарил священнику! С какой стати раздавать так уж щедро монастырское добро – и кому же: врагу Афонского монастыря!
Отец Макарий сначала молчал и улыбался только, а потом сказал что-то, не помню, до этого дела вовсе не касающееся, и ушел.
Оставшись со мной наедине, о<тец> Иероним вздохнул глубоко и сказал:
– Боюсь я, что он без меня все истратит. Он так уж добр, что дай ему волю, так он все «тятинькино наследство в орешек сведет»!
Я, разумеется, стал защищать о<тца> Макария, и мне было немножко досадно на старца, что он вместо того, чтобы разделять нашу небольшую духовную радость, охлаждает ее практическими соображениями.
На возражения мои отец Иероним отвечал мне кротко и серьезно, с одной из тех небесно-светлых своих улыбок, которые чрезвычайно редко озаряли его мощное и строгое лицо и действовали на людей с неотразимым обаянием. Он сказал мне так:
– Чадочко Божие, не бойся! Его сердца мы не испортим… он уж слишком милосерд и благ. Но ведь игумену сто лет; я тоже приближаюсь к разрешению моему, – ему скоро придется быть начальником, пасти все это стадо… И где же? Здесь, на чужбине! Само по себе – оно и хорошо, что он эти воздухи подарил, и Вы видите по жизни наших монахов, что им самим-то ничего не нужно. Но монастырю средства нужны. И отца Макария надо беспрестанно воздерживать и приучать к строгости. Он у нас «увлекательный» человек…
Так сказал старец.
При виде этой неожиданной и неизобразимой улыбки на прекрасном величественном лике, при еще менее ожиданной для меня речи на «ты» со мной, – при этом отеческом воззвании – «Чадочко Божие» – ко мне, сорокалетнему и столь грешному, – мне захотелось уже не руку поцеловать у него, а упасть ему в ноги и поцеловать валеную старую туфлю на ноге его.







