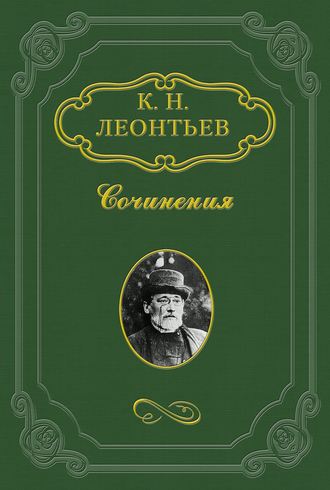
Константин Николаевич Леонтьев
Владимир Соловьев против Данилевского
Итак, давно ли было то время, когда у нас жаловались, что именно этой сухой, мелкой, но точной учености было в России мало? Для многих, или постаревших, или слишком еще молодых, как будто бы это было давно. Для нации же русской это было очень недавно. Все в тех же 60-х годах. Писатели, мыслившие подобно тому публицисту «Современника», которого я цитировал, были тогда исключением; и к тому же многие из тех, которые сочувствовали его мысли (о многокнижии и т. д.), имели в виду только одну непосредственную практическую сторону жизни, социальную, материальную, хозяйственную, то есть они находили, что вообще надо заботиться о нищете и страданиях, а не об «науке для науки». В высших же сферах русской мысли почти все тогда заботились о распространении и утверждении именно той «чернорабочей» научности, на которую г. Соловьев жалуется и на которую он почти обрекает молодое поколение наших ученых. Жаловались на нашу в этом отношении отсталость от Запада не только в начале 60 годов; но я сам уже в 68 году (значит, всего 20 лет тому назад) имел об этом самом предмете довольно любопытный разговор с Мих. Ник. Катковым. Передам его в точности.
X
В 68 году, проживши подряд пять лет в Турции, я приехал в Россию в отпуск, несколько раз виделся с Катковым и подолгу беседовал с ним. Он расспрашивал меня о Турции, я его о России. Живя в Турции, я читал его статьи в пользу классического образования и желал еще больше разъяснить себе его цели. Я сказал ему, между прочим, так:
– На что эти насильственные труды в школе, когда в хороших переводах дух греческих и латинских авторов вполне доступен. Хотя бы я сам, например: я древнегреческому языку вовсе не учился; по-латыни знаю плохо, Софокла я читал в переводах П. М. Леонтьева, читал его Пропилеи, оды Горация в переводе Фета, Аристофана по-французски с толкованиями, а Гомера знаю по Гнедичу. И не только восхищаюсь ими; но, право, мне кажется, что я и понимаю их получше многих из тех, которые твердили все это в училище и потом бросили без внимания. Похвалюсь также и другим, уж извините, я перезнакомился на Востоке более чем с сотней разных европейцев, и нахожу их ничуть ни умнее, ни образованнее себя и других моих русских товарищей. Напротив!
На это Катков отвечал так: – Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; только и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль. А европейцы умеют!
Кажется, он говорил и еще что-то о самом духе древности; но этого я не запомнил, вероятно, потому, что для меня оно было менее ново и поразительно, чем это прямое указание на умственную гимнастику. После я вспомнил, что и в статьях его упоминалось о том же, но другими, менее живописующими словами.
Потом мы перешли к славянофильству по поводу одного для обоих нас занимательного практического вопроса. Незадолго перед этим я прислал ему для «Русского вестника» небольшую статью «Очерки Крита». Я был в восторге от Крита и критских простолюдинов и находил в них множество поэзии. Особенно восхищало меня то, что я почти совсем не видал там на мужчинах европейской одежды, которую я с ранних лет возненавидел всем сердцем и за возмутительную неживописность ее, и за пошлость, и, наконец, за самую нестерпимую всеобщность ее. Последняя глава в моих «Очерках Крита» была посвящена именно этому. Я рассказывал о радостных впечатлениях моих еще дорогой на острове Сире, когда я в первый раз после Петербурга, Варшавы, Вены и Триеста увидал не черную и не серую толпу, а голубую и синюю с пунцовыми большими фесками и красными кушаками. В Крите народ стал еще красивее и пестрее: и греки, и турки. Глаза и душа моя отдыхали, и только цепи службы моей (эти доселе неисцелимые предания Петра I!) воздерживали меня от того, чтобы одеться или по-русски в цветную рубашку и цветной бархат, или даже прямо не то по-гречески, не то по-турецки. Я написал обо всем этом откровенно в моей последней главе; выражался, между прочим, так: «Вот пикник. Едут на хороших больших мулах, убранных кистями, несколько кавасов, греков и турок в расшитых золотом разноцветных одеждах, темно-зеленых, красных, голубых; а за ними верхами же консула в черных и темно-серых пиджаках и сюртучишках, точно стая отвратительных ворон и галок вслед за райскими птицами! Какое подавляющее господство европейской прозы над восточной поэзией! Как же может процветать живопись из современной жизни, когда в образованных странах люди (особенно мужчины) своим присутствием могут только обезобразить и омерзить самый прекрасный вид природы!»
Так я и выражался.
И все в этом роде. Потом, проведя по странице моей вертикальную черту, я представил следующий ряд параллельных антитез для русских художников, которых звал в Турцию:

Восток (писал я это уже позднее, в Адрианополе, где увидел еще и другие оттенки восточных одежд)
1) Похороны богатого турка на острове Крит
2) Схватка критского повстанца (в бурнусе на красном подбое, в высокой красной же феске, в голубых шальварах) с арнаутом мусульманином (в белой фустанелле, серой бурке, расшитой белым и красным, в низкой и круглой феске с густой синей кистью)
3) Монах учит городского мальчика-болгарина грамоте (на мальчике куртка из палевого ситца с большими яркими цветами, оливковые шальвары короткого зуавского фасона и красный кушак)
4) Отшельница старуха в пещере на острове Крит (я знал там такую)
Европа
1) Похороны какого-нибудь Шульце-Делича в Германии
2) Борьба русского пехотинца с французским линейным «трупье» под Севастополем (оба гладкие, оба темные, оба в ужасном кепи и в облизанных панталонах и т. д., мизерные фигуры их известны)
3) Учитель европейский (вообще) учит русского гимназиста
4) Набожная старая немка, читающая в праздник Евангелие на Васильевском острове
И так далее. Катков, печатая мои очерки, выкинул всю эту главу. И когда я спросил его, зачем же он это сделал, он ответил: «Признаюсь, ваше славянофильство мне претит». Потом прибавил: «Рассказывайте, описывайте; мы всегда будем рады печатать ваши рассказы; но зачем же вы хотите нас учить»! Что такое славянофильство? Это доктринерство, натяжка, гримаса. На что надо этому учить? Сама жизнь наведет на все это, когда будет нужно». Не вступая тогда с ним в слишком горячий спор, так как уже понял, что ни он меня, ни я его переубедить не в силах, я сказал на это только следующее:
– Проповедь есть также существенная принадлежность жизни, без нее нельзя. Она приготовляет решения действительности. И к тому же взгляните, какой стыд. Вот эти чашки (я указал на расписную деревянную чашечку, которая стояла на его письменном столе). Эта русская утварь очень оригинальна и красива, отчего мы не обращали на нее внимания до тех пор, пока французы не восхитились ею на прошлогодней выставке. Разве хорошо не иметь никакой национальной изобретательности? Стыдно нам все быть только большим государством, пора стать и великой нацией.
На это Катков возразил с жаром: «Мы не умеем ни ценить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варвары. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться «.
Я замолчал, задумался и позднее убедился, что с этой стороны он был прав. Для большинства нужно прежде почувствовать себя умственно равным в большинстве иностранным, а потом можно стремиться или превзойти других на том же пути, или еще лучше ощутить в себе смелость и умение выйти на вовсе новую стезю. Раз уже утрачено свежее и наивное творчество незнания, другого пути нет.
Катков был прав со своей точки зрения – ближайшей педагогической цели. Не прав он был в том, что не желал никакой заблаговременной проповеди. Я говорю: не прав, как мыслитель непрозорливый; а как практический редактор, опять-таки он был прав, не допуская на страницы своего издания то, что он считал еще несвоевременным. Интересно, между прочим, вот что: года за два, за три до кончины Каткова один из близких ему людей говорил мне, что он теперь думает, «нельзя ли сочинить для лицеистов какую-нибудь форму – в русском вкусе!» Вот уж кто сроки эти чуял и любил!
Из этого разговора следует, что Катков, во-первых, признавал за классическим обучением значение педагогическое, воспитательное, гимнастическое, пожалуй, еще больше, чем общеобразовательное; а во-вторых, что достичь некоторой самобытности (культурной) он для нас, русских, полагал возможным только при большей противу прежнего усидчивости, именно в том чернорабочем ученом труде, который, как мы видели, не особенно сам по себе восхваляется г. Соловьевым. Оговорюсь: г. Соловьев не то чтобы прямо порицал его; он порицает его гораздо меньше, например, чем я; он находит только этот род труда, во-первых, недостаточным, а во-вторых, уж конечно, не специально русским, не могущим дать сам собою никаких национально-культурных результатов.
Оговорившись, продолжаю:
Кто же прав из этих двух замечательных русских людей? Старший или младший? Человек «сороковых годов» или человек «семидесятых»?
Прежде чем ответить на это, скажу, что я не имел случая говорить второй раз о том же с Катковым 20 (19) лет спустя после первого нашего разговора, например, в 87 году. Я думаю, если б я напомнил ему о той нашей беседе, то оказалось бы, что он теперь доволен успехами, сделанными нами за это короткое (в историческом смысле) время.
«Тружеников» науки стало гораздо больше; исполнилось то, чего он желал. увеличилось значительно число русских людей, которые могут продержать одну и ту же мысль в голове своей гораздо дольше пяти минут.
Кто же правее? И в чем правее? Начать с того, что их мнения ничуть не состоят в прямом антагонизме. Катков в 68 году желал, чтобы у нас было больше ученого труженичества. Г. Соловьев утверждает, что теперь желание Каткова исполнилось. Разница, быть может, только та, что Катков, вероятно, в последние дни своей жизни был бы этим состоянием русских умов более доволен, чем г. Соловьев. Что Катков был довольнее состоянием русской учености к концу 80-х годов более, чем 20 лет тому назад, доказывается особенно тем, что он сам становился под конец своей жизни все более и более славянофилом, и в том смысле, что больше прежнего стал верить в возможность русской умственной самобытности. Он надеялся, кажется, и на то, например, что наука государственного права может у нас стать, наконец, на свои ноги и т. п.
Впрочем, когда я говорю и про г. Соловьева, что он менее Каткова этим простым труженичеством доволен, то это надо понимать с одной довольно тонкой оговоркой. Г. Соловьев, с другой точки зрения, пожалуй, и доволен современной бедностью нашей науки, но он доволен не потому, чтобы находил труженичество без творчества вообще достохвальным и делающим нам особую культурную честь. Нет! Если он и рад этой бедности, то лишь потому, что ему хочется всем нам сказать между строчками и по этому поводу все то же и то же.
– Оставьте всякую надежду на самобытность и с этой стороны.
– Наше призвание иное: теплая вера, сильное государство и смиренная, самоотверженная уступка Риму!
Отчасти с г. Соловьевым можно и согласиться: Рим не Рим (а что-то иное, восточное), но, разумеется, усиление подвигов мистицизма и высшей этики в России гораздо желательнее чрезмерного разрастания чисто ученого труженичества. Но вот у меня почти нечаянно сорвалось с пера именно то слово, которое здесь нужно: чрезмерное разрастание. Где же эта мера? О мере этой надо сказать то же, что и о сроках. Определить ее заранее нет средств; помнить о ней необходимо во всем.
Весьма возможно, что у нас еще не достигнута та черта насыщения ученым материалом, при котором создаются капитальные вполне самобытные труды, проливающие совсем новый свет на общечеловеческую науку, и появляются такие поражающи открытия, какими в свое время были: открытие кислорода Лавуазье, гипотеза Гюйгенса (световые волнения эфира), или открытие ячеек в тканях животных и растительных, или палеонтологические прорицания Кювье и т. д.
Прежние старые наши ученые, уже окончившие или кончающие свое поприще, о которых с похвалой упоминает г. Соловьев, в свое время запасшись вдоволь европейским материалом, принялись за несколько самобытную работу ума и, как и следовало ожидать, самый первый и видный всем шаг на этом поприще сделали не натуралисты или доктора, а гуманисты, историки, богословы. Самобытная работа этих русских умов обратилась прежде всего на наши исторические, религиозные и национальные особенности. Умы эти, достаточно, говорю я, запасшись чужим (западным) материалом для приобретения необходимой самоуверенности, обратились по естественному чувству прежде всего к тому, что и западным людям было менее доступно или совсем неизвестно и что у нас самих было вовсе сознанием еще не осмыслено именно вследствие той непривычки долго думать об одном и том же, на которую сетовал когда-то Катков.
Шаг за шагом эти труды привели и к той теории культурных типов, которую автор ее (Данилевский) справедливо приравнивает сам к открытию Бернаром де Жюсье естественной классификации растений. Данилевский был тоже человек 40-х годов, надо это помнить. Крепкий, сословный, крепостнический строй, при котором росли все эти люди 40-х годов, покойное течение жизни при Императоре Николае I дали им возможность развиться не спеша и зрело.
Все они роптали на этот строй, все они более или менее пламенно прилагали руки к его уничтожению; но как они, так и лучшие поэты наши и романисты обязаны этому сословному строю в значительной мере своим развитием. Всем им: Каткову, Герцену, славянофилам, Данилевскому – было уже за 40 или под 40 лет в 61 году, когда вдруг произошел известный перелом. Они его встретили уже вполне зрелыми, но вовсе еще не устаревшими людьми. Некоторые из них (Катков, И. С. Аксаков, Данилевский, отчасти Самарин) именно после переворота и принесли жатву тех семян, которые посеяны были в них при других условиях; другие же, как, например, Хомяков, хотя и свершили свое назначение прежде перелома, но на свет, так сказать, вышли все-таки после него (вследствие цензурных и других облегчений). Я говорю, до 40 лет все эти люди жили в прежней, крайне неравноправной и жесткой России, созревали на ее спокойном и досужном просторе. В них совершилось одно из тех таинств психического развития, которые наука еще не в силах до сих пор удовлетворительно формулировать; в идеале, в сознании – они все более или менее ненавидели этот крепостнический и деспотический строй (и напрасно, конечно), но в бессознательных безднах их душ эпоха эта, благоприятная досужной мысли, свершила свое органическое независимое от их воли дело.







